 Генерал-губернатор только что потряс город, и с самого обеда мы смотрели парад из окон. Непрерывный строй солдат тянулся от дома [военного] губернатора Унтербергера до вокзала, а это более мили.
Генерал-губернатор только что потряс город, и с самого обеда мы смотрели парад из окон. Непрерывный строй солдат тянулся от дома [военного] губернатора Унтербергера до вокзала, а это более мили.
«Американка Элеонора Лорд Прей (1868-1954), уроженка Южного Бервика, прибыла из штата Мэн на Дальний Восток в июне 1894 года еще молодой и восторженной женщиной, только что вышедшей замуж за одного из членов семьи Чарльза и Сары Смит, торговцев, владевших во Владивостоке «Американским магазином».
Будучи талантливой и наблюдательной рассказчицей, все радости и превратности своей жизни в России Элеонора Прей сумела превратить в красочное и увлекательное свидетельство стойкости и способности к выживанию.
Практически ежедневно, а зачастую и по нескольку раз в день г-жа Прей писала и отправляла письма своим корреспондентам в Новую Англию, Европу и Китай.
Это единственное в своем роде и уникальное эпистолярное наследие, собранное за тридцать шесть лет, насчитывает шестнадцать тысяч страниц. Проиллюстрированные фотографиями из архива семьи Преев, эти письма рисуют живой портрет города, в них запечатлена целая эпоха — драматическая летопись жизни Владивостока первой трети XX века».
Письма из Владивостока
Элеонора Лорд Прей
Письма из Владивостока (1894–1930) / Элеонора Лорд Прей; под ред. Биргитты Ингемансон; пер. с англ. А. А. Сапелкина; Приморский музей им. В. К. Арсеньева. – Владивосток: [Альманах «Рубеж»], 2008. – 448 с.
17.7.1894 «Мы отправились на бал по случаю дня Св. Петра и Павла… в экипаже – от самого дома до Адмиральской пристани, где ждал паровой катер, который доставил нас на борт флагманского корабля «Адмирал Нахимов». Нас приняли капитан Лавров и адмирал Тыртов. Даже и не подумаешь, что корабль построен для кровавых войн, ибо он отделан так, что больше похож на дворец, чем на что-либо иное. Кормовая палуба была прикрыта тремя навесами, так что никакой дождь не мог на неё попасть. Это пространство было отведено для танцев. … Оно было сделано в виде шатра, а в самой верхней точке шатра находилась большая масса зелёных веток, в которых было около пятидесяти лампочек накаливания. Сам шатёр был из чередовавшихся полос – голубых с белыми. От этих лампочек в ветках к краям шатра шли во всех направлениях тяжёлые гирлянды из листьев, а на них были лампочки накаливания на расстоянии около трёх футов друг от друга, прикрытые бумагою различных цветов. Они смотрелись как многочисленные цветы среди зелени. На больших пушках была сооружена площадка, а сложенные гамаки матросов были превращены в очень удобные шезлонги, расставленные на ней. Всё было покрыто коврами и задрапировано так, что забывалось, на чём сидишь.
Эта площадка находилась на высоте восьми футов над палубой, так что с неё было очень удобно смотреть на танцевавших. …Ниже по сходам корабль был украшен замечательно. Там был разбит сад площадью примерно 40 х 40 футов со скалами, кустарниками, папоротником и двумя прекрасными фонтанами. Как удалось сотворить на корабле такой уголок девственной природы, создающий видимость естественной прохлады, не могу сказать. Салон тоже был застелен коврами и драпирован. Возвращаясь к площадке, о которой я уже говорила, скажу, что на ней был российский двуглавый орёл, сложенный из матросских ножей и револьверов. Он был сложен так искусно, что нужно было долго вглядываться в него, чтобы догадаться, из чего его сделали».
* * *
24.6.1894 «В бухте стоят три русских военных корабля, и прошлой ночью на закате мы вышли на балкон, чтобы послушать, как военный оркестр исполняет русскую национальную молитву во время спуска флага. Это было прекрасно, и я надеюсь когда-нибудь достать ноты этой молитвы и послать их домой. Жизнь здесь лёгкая и очень весёлая – так мне кажется, но так как я из «восточной глубинки», я не бывала много в обществе. Владивосток – это крепость империи, как Мальта или Кронштадт, поэтому здесь, конечно же, огромное число офицеров – как войсковых, так и флотских. Князья, бароны, вице-адмиралы, золотые галуны, шевроны и медные пуговицы столь обильны и повседневны, как мухи дома. Всё это повергало меня в трепет, когда офицеры начали наносить нам визиты, но теперь я могу проглотить всё это, даже не моргнув. …Мне приходилось принимать двух вице-адмиралов, капитана высокого ранга, барона и Бог знает кого ещё, но я жива и рассказываю об этом».
* * *
19.8.1894 «Корабль французского адмирала [«Баярд»] пришёл сегодня утром на рассвете. Я услышала утренний орудийный залп со сторожевого корабля, а Фред сказал: «Ну вот, пришёл француз». Тот как раз проходил мимо сторожевого корабля, и было десять минут шестого. Он медленно шёл вперёд, пока не стал на якорь около «Корнилова» прямо напротив нас. …В восемь часов [французский корабль] поприветствовал батарею двадцатью одним пушечным выстрелом, причём каждый отдавался эхом, летевшим от сопки к сопке, производя неимоверный грохот. Батарея ответила на приветствие, тоже дав двадцать один залп. Затем пятнадцатью залпами француз поприветствовал адмирала на борту «Нахимова», и конечно же «Нахимов» ответил ещё пятнадцатью. Затем одновременно французы подняли свой флаг, и их оркестр играл «Марсельезу», а русские – свой, и их оркестр играл «Боже, Царя храни». Затем французы подняли русский флаг, и их оркестр играл «Боже, Царя храни», а русские корабли в то же самое время поднимали французский флаг и играли «Марсельезу». Затем на какое-то время обмен любезностями приостановился, и я смогла позавтракать».
* * *
16.1.1895 «Здесь проводятся и такие забавы, как маскарад. Группы людей в масках ходят по городу и заходят в то место, где собирается на праздник общество, независимо от того, знакомы они с хозяевами или нет. Ряженым полагается показывать худшее из того, на что они способны, и как-то раз на маскараде г-жа Линдгольм взобралась на спинку стула пастора и перепрыгнула через его голову, с громким стуком опустившись на пол перед ним, и все думали, что это мужчина, переодетый женщиною, пока она не сняла маски. Из зимних забав здесь есть также каток, и он очень хорош; он находится напротив Морского клуба и занимает около половины акра, а чистят и убирают его кули. Он обнесён вокруг забором, и с каждой стороны имеется по домику, куда можно зайти, чтобы погреться и выпить горячего чаю. Около входа находится помост, на котором дважды в неделю играет духовой оркестр. Билеты на весь период стоят пять рублей, а разовый билет – двадцать копеек».
* * *
6.3.1895 «Накануне вечером на катке был карнавал. Каток был великолепен – с улицы, проходящей выше, он смотрелся, как волшебная страна: он был освещён развешанными на верёвках цветными фонариками и — здесь и там — лигроиновыми лампами. Играл духовой оркестр, и было множество народу. Несмотря на тёплую погоду, лёд был вычищен так, что сделался ровным и твёрдым, как стекло. Катание на коньках не составило для меня труда, так что удовольствие от вечера было полным!.. Танцевали на коньках русскую кадриль, и это было очень мило; в танце участвовали, конечно, только те, кто хорошо катался, и они сделали это превосходно. Нынче Великий пост; мы постоянно видим батальоны солдат, идущих через бухту [Золотой Рог] в церковь. Каждый отряд, прежде чем получить причастие, должен посетить церковь три дня подряд утром и вечером. Солдаты с отдалённых батарей должны поторопиться, ибо, если они дождутся, что лёд треснет, им придётся шагать каждый раз по пять миль, а по льду – не более мили. На Великий пост все они ходят причащаться, и у священнослужителей, должно быть, дела идут веселее, когда им приходится отпускать грехи за год сразу тысячам солдат».
* * *
6.5.1895 «В некоторых газетах я видела инсинуации по поводу того, что у русских солдат скудный рацион, и они питаются одним чёрным хлебом и супом; но если попробовать обычного русского супу, им можно просто позавидовать, ибо это самый вкусный суп, какой только можно себе вообразить. В нём всевозможнейшие овощи и огромный кусок мяса, и он хорош даже для короля. После супа съедают мясо с небольшим количеством горчицы. Чёрный хлеб тоже очень питателен. … В дни, когда приходит прачка, у нас готовится обычный русский суп, и когда его подают на стол, всегда раздаются возгласы восторга».
* * *
9.6.1895 «Генерал-губернатор только что потряс город, и с самого обеда мы смотрели парад из окон. Непрерывный строй солдат тянулся от дома [военного] губернатора Унтербергера до вокзала, а это более мили. Сначала проехали верхом казак и полицмейстер Петров, оба в великолепной униформе; они очистили путь ото всего и вся, кроме солдат. Затем проехал блестящий экипаж, запряжённый тройкой прекрасных серых лошадей с упряжью, блестевшей серебром по синему фону. На кучере был чёрный бархатный кафтан с синими рукавами. В экипаже были губернатор Унтербергер в полной униформе серого цвета с красной перевязью и генерал-губернатор в синей униформе. Затем последовали экипажи, в которых находились городские сановники и пр. в полной форме. Когда проезжал ген.-губ., каждая рота салютовала, а когда он подъехал к губернаторскому дому, они начали петь. Мне так нравится слушать, как поют солдаты, а делают они это почти всегда, когда идут маршем».
* * *
2.11.1895 «Сегодня большой праздник, все флаги подняты, а корабли разукрашены от носа до кормы, и был салют, который принёс удовлетворение даже мне. Был царский салют в сто один залп из пушек с каждого из кораблей – «Николая», «Корнилова», «Нахимова», «Мономаха», «Крейсера» и из крепости, всего 707 залпов, и некоторые из них были очень сильными. Сегодня год, как император Николай взошёл на трон, и вчера все офицеры сняли траурные повязки, которые они носили целый год на рукаве по Александру III».
* * *
25.3.1899 «Нынешним утром я ходила к Линдгольмам и обратно сразу же после завтрака, и я получила большое удовольствие, потому что дул холодный восточный ветер и шёл мокрый снег. Ледокол без всякого труда вальсировал на льду возле доков, и до полудня он изрисовал всю бухту, и теперь лёд плавает по ней огромными глыбами. Этот конец бухты совершенно чист, ибо лёд, который был у берега, отошёл минувшей ночью, унеся с собою множество вмёрзших в него сампанов, владельцы которых – китайцы – попрыгали в них и отошли тоже, а теперь, сумев освободить свои лодки ото льда, они медленно гребут назад от острова Русского».
* * *
18.7.1899 «Вчера днём мы впервые в этом году играли на нашем собственном корте [при «Датском доме»], и как было замечательно, что с нами снова были Кнорринги. Теперь, когда погода нам это позволит, мы будем играть каждый день. Я наняла двух маленьких китайчат, чтобы они поднимали для меня мячики, и они должны быть на месте ежедневно с четырёх до восьми, за что каждый будет получать по три рубля в месяц. Я купила каждому из них набор чистой одежды, который будет храниться здесь, а Ду Ки должен следить за тем, чтобы они мылись перед тем, как надеть её. Каждый набор стоит один рубль двадцать копеек, и я решила, что это довольно-таки дешёво. Сара собирается купить им башмаки и носки, так что они будут настоящими маленькими франтами».
* * *
22.8.1899 «Благотворительный базар состоялся третьего дня [20 августа] и имел большой успех, особенно наш чайный павильон. Над нами был навес около шестидесяти футов в длину и двадцати в ширину, а стены изнутри были драпированы голубым и бледно-жёлтым – это личные цвета губернатора. У нас было восемь столов из бамбука и четыре бамбуковых стула при каждом, причём все столы были отделены друг от друга пальмами в кадках. По [обеим] сторонам входа стояли небольшие лотки, где продавались конфекты, пирожные и цветы. В глубине находился длинный прилавок, где принимались деньги и тоже подавались пирожные. Первым делом пополудни я поставила цветочную палатку, и почти первая моя продажа была самому губернатору. Я совершенно смешалась, запуталась в русском языке, так что Его Превосходительство стал говорить со мною по-французски. …Тут как раз подошла мадемуазель Чухнина, и он, услыхав, что она заговорила со мною по-английски, последовал её примеру. Я продала ему две несчастные маленькие бутоньерки за пятнадцать рублей и считаю, что сделала очень хорошо. Чуть позже я пошла в палатку, где была касса, и провела остаток дня в ней. …Деньги стали обесцениваться из-за щедрых подношений, и кто-то заплатил за чашку чая одной из наших собственных [американских] монет в десять долларов золотом! …Тулли продала один букет за тридцать рублей, а мадемуазель Чухнина продала чаю на сто сорок четыре [рубля]. В конце дня у нас было тысяча семьсот с небольшим рублей, что превзошло наши самые смелые ожидания. Мы легко могли бы выручить две тысячи, если бы у нас было больше цветов, сладостей и пр., но всё, кроме чая, закончилось до шести часов. В прошлом году один только чайный павильон дал пятьсот рублей, а ещё годом ранее – тысячу двести».
* * *
21.10.1899 «Я была с мисс Морфью на верхнем этаже у «Кунста и Альберса», когда ко мне подошёл г-н Штехман-младший и спросил, не будет ли мне угодно зайти в его отдел и посмотреть новые красивые вещи. Я давно охотилась у них за жакетом, но мне говорили, что всё, что ожидалось, уже пришло, так что в последнее время я туда не заходила. Представляешь мою радость, когда я обнаружила французский пиджачок из тюленьего меха как раз моего размера за пятьдесят рублей? Я не поверила г-ну Ш., когда он назвал мне стоимость, но потом я увидела, что это был тюлений мех французской выделки, и поскольку мне он понравился, цена меня больше не смущала, тем более что она была в пределах наших возможностей. Я распорядилась, чтобы покупку прислали мне на дом, затем надела её и пошла покрасоваться перед Тедом в контору. Он был вне себя от восторга почти так же, как и я, и после позднего ужина я, чтоб его порадовать, надевала её ещё три раза».
* * *
9.2.1901 «Прошлым вечером по приглашению м-ра Тейлора мы ходили в оперу слушать «Трубадура». В компании с нами был м-р Кларксон, и у нас была нижняя ложа напротив губернаторской. Опера началась с более чем получасовым запозданием, причиною чему было то, что ждали губернатора со свитою, которая включала генерала Линевича, главнокомандующего всеми русскими силами на Востоке, только что вернувшегося из Пекина. Шум в партере возвестил его прибытие, и все в театре поднялись, чтобы поприветствовать его, на что он в знак признательности ответил поклоном и отдав по-военному честь. Это стоило увидеть, хотя, конечно же, всё это заняло не более нескольких секунд».
* * *
19.3.1901 «Мы провели приятный вечер у Гансенов, но конечно же он был более или менее подпорчен, и неизбежно, обсуждением ужасной, ужасной вещи, которая произошла минувшей ночью, когда ген[ерал] Келлер, начальник железной дороги, сгорел заживо в своём личном вагоне между Владивостоком и Никольском. Он выехал отсюда в полночь, совсем один, а ранним утром, как раз на подъезде к Никольску, его вагон был обнаружен горящим, и мы пока не слышали никаких подробностей. Ему было не более сорока, и он получил звание генерал-майора всего несколько месяцев назад за службу, связанную с охраной и ремонтом железной дороги в Тяньдзине во время [боксёрского] восстания.
Господин Линдгольм, видный представитель городского общества и близкий друг семьи Преев. Нажмите, чтобы УВЕЛИЧИТЬ
…На серебряной свадьбе Линдгольмов менее месяца назад ген. Келлер, плк. Чернeкнижников и м-р Шулинген сидели за обедом напротив меня, и вот двое из троих уже умерли. На месте плк. Чернекнижникова я буквально тряслась бы от страха, что следом будет моя очередь. Я так хорошо помню, как тем вечером каждый из них пил моё здоровье и чокался со мною, когда предлагалось выпить здоровье дам».
* * *
10.2.1904 «Наконец это случилось, и напряжения, в котором мы прожили последние сутки, хватило бы на целую жизнь. Вчерашним утром [9.2] я печатала фотографии, когда раздался пушечный выстрел. У меня сердце чуть не замерло, и казалось, прошёл час, прежде чем раздалось ещё два, и тогда я поняла, что это был сигнал к войне с адмиральского корабля «Россия». Вскоре я узнала от своих друзей, что крейсеру «Громобой» приказано выйти в море … Я пожелала им победы и по русскому обычаю дала своё благословение… А затем корабли отплыли – один за другим: сперва «Россия» – около двух часов, затем «Богатырь», потом «Рюрик», а самым последним, около четырёх, – «Громобой», и я молилась за него, пока он не скрылся из виду. Всё это очень тягостно для тех, у кого на борту имеются друзья и знакомые, но одному Богу ведомо, каково всё это для жён офицеров. Я не пошла на лёд, чтобы помахать им на прощание, ибо я не могла этого вынести. Некоторые из женщин падали в обморок, и, говорят, это было так печально! В полдень стали ползти по городу слухи, что ночью японский торпедный катер поразил три русских боевых корабля на рейде Порт-Артура».
* * *
6.3.1904 «В два часа нынче днём город обстреливался с восточной стороны семью японскими крейсерами, и это продолжалось около часу. Я сидела здесь и писала, а Тед сидел рядом со мною. Конечно же мы слышали орудийные залпы, но подумали, что это всё лишь учения на батарее, и не обратили на них никакого внимания. Тед заметил, что звуки всё приближаются, и сказал: «На этот раз это япошки», но никто из нас и не подумал, что это так. Затем мы увидели, что [русские] корабли [в гавани] поднимают якоря, и мы поняли, что произошло что-то неожиданное, потому что корабли вовсе не были на парах, а многие матросы находились на берегу. Затем вошёл Ду Ки и сказал, что на другом конце города кого-то убило. После этого Тед схватил свой полевой бинокль и побежал со всех ног на вершину сопки, и оттуда он ясно увидел семь удалявшихся японских крейсеров и увидел несколько мест в другом конце города, куда упали снаряды; три из них – на лёд недалеко от дома Линдгольмов, это не более полутора миль от нас. Он видел, как выходила наша эскадра и выстраивалась вдоль берега под прикрытием батарей, потому что, будучи крейсерами, корабли не оснащены тяжёлыми орудиями. … Наша эскадра вернулась только на закате, и до чего же я был рада её видеть. Вообразите себе снаряд, выпущенный [во время обстрела] с корабля на расстоянии, по крайне мере, десяти миль, который вошёл в верхний угол помещения, где сидели две женщины и трое детей… рассёк тело одной из женщин надвое, разнёс по пути стол, затем пробил стену и разорвался во дворе, и ни у одного из других людей не было даже царапины. …Более ста пятидесяти снарядов было выпущено по городу, и каждый стоит не менее пятисот долларов золотом, так что обстрел должен был обойтись примерно в сто тысяч, и всё это за жизнь единственной бедной женщины. Воистину, война ужасна!».
* * *
1.5.1910 «[Накануне вечером] я и Сара пошли в собор на пасхальную службу, чтобы послушать знаменитый гимн «Христос воскресе». … Мы пришли в собор около одиннадцати часов и толкались в нём, пока нам не удалось протиснуться почти к самому алтарю. Не берусь описать толкотню, но я впервые поняла, что такое быть сардиной [в консервной банке]. Даже блохе не было места, чтобы прыгнуть, а о такой роскоши, чтобы вытереть собственный нос, нечего было и мечтать. Плывёшь в ту сторону, куда несёт тебя толпа. Вы легко сможете представить себе эту давку, если я скажу, что, когда люди подались назад, чтобы пропустить в середину [церкви] процессию, меня сжали так, что все пять застёжек на моём корсете расстегнулись одна за другой – вы когда-нибудь слышали о чём-либо подобном? Незадолго до полуночи из собора вынесли раку, после чего процессия священников под предводительством епископа вышла из святилища и, возглавляемая семью или восемью хоругвеносцами, двинулась, выйдя из главного входа, вдоль церкви, а затем вокруг неё; тогда многие пристроились сзади и пошли следом. Двое спереди несли огромные светильники на шестах – они были похожи на унесённые с места уличные фонари. Затем шло четыре или пять огромных хоругвей – тонкого, по-видимому, золотого шитья, и на каждой – лик святого, затем ещё три хоругви [поменьше], каждую из которых нёс один человек; потом ещё один человек нёс крест. Они построились, стоя посредине церкви, и, когда вышел священник, тронулись с пением, которое не прерывалось. До того собор, кроме его алтарной части, был освещён очень слабо, но когда начался крестный ход, зажглись паникадила с десятками больших свечей, и был включён электрический свет. За алтарём, в части святилища, были установлены ряды маленьких красных и синих лампочек, которые производили роскошный эффект. Будем надеяться, что никто из древних святых-консерваторов не станет возражать против такого новшества. Люди напряжённо вслушивались в пение, доходившее извне, ожидая слов «Христос воскресе», а затем они начали зажигать свечки, которые были у них в руках, и потёк расплавившийся воск. Процессия вернулась в церковь, и служба продолжилась, причём пели оба хора и священники. Музыка была прекрасна. …Снаружи находились сотни людей, и выглядело всё так красиво: вдоль огороженной территории вокруг собора, площадью с акр или более того, были натянуты верёвки с разноцветными фонариками и флагами, а три мощных прожектора с военных кораблей в бухте, направленных на собор, освещали его как днём – зрелище было потрясающее. По пути домой нам встречались сотни людей, спешивших в церковь с огромными куличами (это такие булки, по форме похожие на наш тёмный хлеб, только различные по высоте – от нескольких дюймов до двух-трёх футов), чтобы их освятил епископ. Полагаю, что служба должна закончиться около четырёх утра. Священники, конечно же, были в самых роскошных одеяниях, а от митры епископа слюнки текут: она усеяна бриллиантами и великолепными карбункулами… сапфирами и другими каменьями».
* * *
25.10.1914 «В субботу в поезде ехала солдатка с крошкой ребёнком на руках и с маленьким мальчиком одиннадцати лет. Ребёнок плакал, и мать плакала тоже, и тогда я спросила её, в чём дело. Он сказала мне, что полк её мужа отправляют на фронт, и она целый день выискивает его, чтобы попрощаться, но не смогла найти его на Первой Речке, поэтому отправляется на Вторую в надежде найти его там, но она ужасно боится, что полк уже убыл и что она никогда его больше не увидит. У неё ещё двое детей по возрасту между этими двумя, и бедная женщина сидела и плакала, а я плакала с нею, хотя прежде я её и не знала, но я ничего не могла с собою поделать».
* * *
8.8.1915 «Будучи слишком экономной, чтобы брать билеты на поезд по высокой цене, я купила по своему обыкновению билет третьего класса, но на этот раз мне не повезло, так как в поезде было только четыре вагона этого класса, и все они были набиты битком. У меня было два больших квадратных свёртка, так что, сделав из них сиденье, я устроилась в тамбуре, в котором было полно китайцев, а в соседнем вагоне было двадцать пять солдат из первого владивостокского [полка], отправлявшихся, видимо, на фронт. Один из них выглядел таким несчастным, что я позвала бабу, торговавшую на перроне, и купила у неё две пачки папирос. Одну из них я дала ему, а вторую – другому, и вскоре я услышала, как тот другой сказал несколько слов по-английски – очевидно, чтобы как-то выделиться: «Go ahead, Johnny – all right. Do you verstehen?». И вот я спросила его, где он учился английскому, и он сказал мне, что был два года в Америке. …Какое это было удовольствие! Солдаты были в возрасте от двадцати до тридцати лет – красивые, крепкие ребята, благожелательные и весёлые. Плохо делалось от одной мысли, что может их ожидать. Я рассказала им, что наши и английские газеты пишут о храбрости русских солдат, что конечно же им польстило. Они, должно быть, были из каких-то частей Балтии, потому что между собою они говорили на языке, которого я не могла понять, за исключением нескольких отдельных немецких слов, – это был, вероятно, ливонский или эстонский, но я не знаю, чем они различаются. У некоторых из них были красивые профили и носы с тонкой переносицей, и они почти все без исключения были замечательного сложения. На Седанке мы проехали мимо поезда, полного новобранцами, едущими, вероятно, во Владивосток, где их обтешут, как надо, и они сидели в открытом вагоне и громко пели. Мои солдаты кричали им, когда мы проезжали, спрашивая, из какой они губернии, и они в ответ кричали, что из Амурского края – «амурцы», как они себя называли; вероятно, они были ещё совсем мальчишки, но было слишком темно и разглядеть их не удалось. …Я ни за что не хотела бы пропустить этот поезд».
* * *
1.1.1915 «Вчера состоялись похороны г-на Линдгольма. Сара осталась с г-жой Линдгольм, и Костя [Тыртов] тоже остался дома, потому что в первый день он подхватил противный насморк, и г-жа Линдгольм уговорила его не ходить, поскольку он остался единственным мужчиной в семье, способным что-то делать. … Адмирал Шульц взял с собою Тулли и свою сестру, адмирал Римский-Корсаков – Теда, а я пошла за ними следом. До кладбища было более двух миль, но ходьба ничуть меня не утомила, а Тулли оставила для нас автомотор, чтобы мы на нём вернулись домой, так как мы с Тедом стояли у могилы, пока её полностью не засыпали. Тулли хотела остаться, но мы настояли, чтобы она поехала домой; так ужасно видеть и слышать, как комья земли стучат о крышку гроба, производя ужасный глухой звук, – даже постороннему невыносимо это слышать. На похоронах присутствовало очень много народу, так как г-н Линдгольм прожил в этой стране шестьдесят четыре года и был широко известен».
* * *
17.3.1917 «Ну вот! Испытываешь заметное расстройство, когда, проснувшись нынче утром, оказываешься в новой действительности [после отречения царя], и у всех нас такое ощущение, будто мы стоим на голове. В течение нескольких дней все пребывали в беспокойстве, потому что из Петербурга не было никаких телеграмм, так что нынешняя стала прямо-таки как выстрел из пушки.
…Телеграмма была опубликована вчера в конце дня, и Алеутская вокруг редакции «Далёкой окраины» была забита людьми, ожидавшими выхода листка. Я так устала, когда пришла домой, что, не раздеваясь, прилегла на пару часов, и пока я спала, вошёл Тед и прикрепил большой лист с телеграммой к зеркалу. Впрочем, я, со своей обычной наблюдательностью, поднялась и не замечала её, пока он не подошёл и не указал мне на неё. Все это звучит замечательно, и если люди, которые это делают, смогут воплотить свои слова, над Россией встанет заря новой эры. Вместо того чтобы отправить министров в тюрьму, большинство из них следовало бы повесить, но сердце сжимается, когда думаешь об императоре и императрице и о том, что они должны испытывать, видя, как всё повернулись против них. Что император слаб, знает каждый, но это, скорее, его несчастье, нежели вина».
* * *
21.3.1917 «Ни о чём больше и не слышно [кроме как о революции], и митинги проходят с утра до вечера. В понедельник был женский митинг, и, как говорят, все вопили одновременно. Женщины кричали: «Долой Таубе!», и когда кто-то спросил одну из самых осипших женщин, почему она хочет, чтобы покончили с Таубе, та ответила, что не знает. Они вопили также: «Долой китайцев!», «Пусть у всех будут русские слуги!». Что это за безумие! Люди даже не знают, чего хотят, поэтому и кричат что попало, лишь бы покричать, а прежде митингов не разрешали… День или два назад кто-то из пожарной дружины убрал орлов с памятника Невельскому и Николаевской арки. Когда после некоторых усилий орлы упали с арки на мостовую, рабочий, который сделал это, выразил толпе признательность за её «ура!» тем, что снял шапку и три раза перекрестился; похоже, однако, что он сделал это скорее всего из суеверия и про себя молился: «Да простит меня Бог!».
* * *
9.2.1918 «Как-то вечером была произведена облава в доме с меблированными комнатами на Первой Морской, и несколько мошенников прорвалось через оцепление, а милиция бросилась за ними; одни побежали в сторону Эгершельда, другие – вниз по склону в сторону вокзала, причём и бежавшие, и преследовавшие стреляли. Не думаю, чтобы ты знала м-ра Бэрретта: это высокий, пожилой англичанин в клетчатых брюках и с моноклем, который выглядит так, словно он сошёл со страниц «Пака», – совершенно особенная личность, и, будучи слегка сутулым, он держит голову в точности как курица, собирающаяся что-нибудь склевать. Он подошёл к углу «Гранд-отеля», когда мимо пробегала вся эта процессия, и быстренько прижался к стене, чтобы уменьшить шансы заполучить пулю, но прижать голову он не смог. Последний из бежавших милиционеров заприметил его и приблизился к нему, полагая, что это один из шайки, но Бэррет оказался проворнее, чем тот: в одно мгновение он навёл на милиционера револьвер и учтиво сказал ему своим забавным скрипучим голосом: «Ещё шаг, и я разнесу вашу чёртову голову». Этого было достаточно, чтобы тот повернулся и присоединился к погоне, предоставив м-ру Бэрретту возможность спокойно продолжить путь. Жаль, что милиционер, уловив, по-видимому, значение сказанных м-ром Бэрреттом слов, недостаточно владел английским для того, чтобы оценить чистоту его выговора».
* * *
12.2.1918 «Помнишь, как когда-то мы с тобой ходили в казначейство, чтобы заплатить семьдесят пять копеек за твой паспорт и как мы истомились там от скуки за время долгого ожидания? Сейчас же люди выискивают любой предлог, чтобы отправиться туда, поскольку каждый день там разыгрываются самые захватывающие сцены. Ньюхард-сан рассказал нам об одной, при которой ему довелось присутствовать нынешним утром и которая доставила ему такое удовольствие, как мало что другое за многие годы. Видимо, поступило распоряжение от этих … (подбери для них самое гадкое слово), что пенсии должны выплачиваться в Хабаровске, что является одним из способов обкрадывать вдов и сирот, ибо кто будет платить каждый месяц пятьдесят рублей на поездку туда, чтобы получить сорок, а то и меньше, рублей пенсии? Одна дама – очевидно, офицерская жена – пришла получить своё, и, когда ей сказали об этом дурацком и сволочном новшестве, она подняла визг, а когда ей не хватило голоса, чтобы завизжать ещё громче, она сорвала с ноги калошу и запустила ею в голову комиссара. Калоша, однако, угодила в кого-то ещё, кто отправил её ей обратно, но вместо этого попал в даму, которая её сопровождала и которая мигом упала в обморок! Конечно же поднялся большой переполох, и стали требовать ареста дамы с калошей, но к этому времени та уже была в истерике, и чья-то рассудительная голова предложила, что, поскольку дама не отвечала за то, что делала, было бы разумнее дать ей лучше стакан холодной воды, а не арестовывать её, что и было исполнено. Та одним глотком выпила воду, повернулась и, как китаец из прачечной, заорала на даму, которая упала в обморок».
* * *
9.11.1918 «За исключением Парижа, Владивосток в данное время – это, вероятно, самое интересное место на свете, а «Хижина», по-моему, самое интересное в нём место, ибо тут можно увидеть всё сразу: наших великолепных, высоких ребят в хаки, британцев, канадцев, чехов, итальянцев, французов и пр. Я люблю их всех и делаю всё возможное, чтобы завязать с ними разговор. Заходят французские матросы с «Керсена» в своей морской униформе и бескозырках с огромным помпоном из красного шёлка, и я беседую с ними, стараясь как можно лучше говорить на французском, полученном в средней школе Грейт-Фоллса, и их врождённая французская учтивость бросается в глаза, ибо в противном случае они просто гоготали бы, слыша, что я делаю с их языком, а я смеялась бы вместе с ними. Кроме того, в открытые двери «Хижины» мы часто видим пленных немцев, австрийцев и турок, которых ведут на работы партиями под эскортом наших ребят, заставляющих их шевелиться. Какие же мы счастливчики, что здесь, во Владивостоке, вокруг нас так много интересного!».
* * *
18.11.1919 «Почти повсюду вокруг вокзала и вдоль причала лежат тела, и мокрый снег, который выпал вчера, делает всё ещё более мрачным. …Мне так жалко кадет, погибших на вокзале, – так много, много молодых жизней было принесено в жертву с начала этой ужасной войны, что просто удивительно, что кто-то из храбрейших ещё остался в живых. Многих из этих мальчиков я знала в лицо, поскольку видела их в «Хижине», и в последние два дня я всё высматривала и высматривала тех, кого я знала, чтобы убедиться, живы ли они. Вчера зашёл один флотский мальчик, а нынче утром – один кадет. Г-н Маттесен из своего кабинета на Алеутской видел убитыми семь человек, из которых пятеро гражданских. … Один из них, тяжёло раненный в ногу, был спасён сестрою из Русского Красного Креста, которая выбежала откуда-то и, невзирая на свист пуль, оторвала от своей одежды кусок материи, сделала из неё жгут и втащила раненого в дом. Г-н Маттесон видел это и сказал, что в жизни не слыхивал о таком самообладании и храбрости. Та же женщина, когда на вокзальной площади призывали добровольцев, вышла вперёд, но британский генерал (кажется) не хотел брать женщину. Она, однако, настояла, отправилась с ними и помогала раненым ценою собственной жизни и вернулась опять невредимою».
* * *
7.12.1919 «Тед пришёл домой и принёс приглашение на концерт у чехов… и я никогда не слышала такой чудесной музыки – и никогда не мечтала услышать. В оркестре более восьмидесяти музыкантов, а руководит им композитор [Рудольф] Карел [1880-1945]. Они только что приехали с Запада, и ты даже представить себе не можешь, как они играли. [Программа включала в себя произведения Чайковского, увертюру к опере Вагнера «Тангейзер», «Влтаву» Сметаны и «Ночь на Лысой горе» Мусоргского]. … Мы вышли из этого старого грязного театра, чтобы попасть в мир, белый от невероятно мягкого, искрящегося снега – прекрасного, как музыка, – с бледною луною, как раз показавшейся из-за облаков. …Это был пятый или шестой концерт, который чехи дали за последние полтора года, так как оркестры один за другим оказываются здесь со своими полками, ибо все они [музыканты] – солдаты. Это роскошь, о которой Владивосток не имеет права даже мечтать, ибо многие исполнители – из оперных театров Вены, Будапешта и Праги. Билеты не продаются, а выдаются вместе с приглашениями, так что дело вовсе не в деньгах: таким прекрасным способом чехи выражают свою благодарность союзниками за то, что те для них сделали. … Мы, как мелкая рыбёшка, не располагаем ложею, но у нас очень хорошие места в партере, на достаточном удалении от сцены, чтобы получать удовольствие. Майор Броз, верховный комиссар у чехов, и ген. Цечек (я думаю, это был он) принимали гостей у входа, а все капельдинеры были солдаты».
* * *
27.10.1920 «Десять дней назад на железной дороге, возле [станции] Пограничная, произошло ужасное крушение, когда… два груженых поезда – наполовину пассажирских, наполовину товарных – столкнулись с такою силою, что часть вагонов одного поезда перелетела через вагоны другого. Это случилось на крутом склоне; у поезда, шедшего вверх, было два паровоза, и машинист, увидав опасность, затормозил и начал движение назад, чтобы ослабить неизбежное столкновение. Другой поезд, машинист и кочегар которого были мертвецки пьяны, шёл вниз со скоростью восемьдесят миль в час, так что крушение можно себе представить. Это было незадолго до рассвета, когда большинство пассажиров спало; огонь вспыхнул немедленно, так что им не было никакой возможности спастись. …В поезде находилось большинство актёров старой и широко известной труппы Долина, и все, кроме четырёх человек, погибли. Вчера здесь прошли большие похороны, и земле было предано пять гробов с останками четырнадцати человек из труппы. М-р Мерриам, который ехал из Харбина первым поездом, пущенным по линии после того, как её очистили, сказал, что от поездов решительно ничего не осталось, кроме изуродованных стальных остовов».
* * *
27.06.1922, адресовано Чарльзу Х. Форстеру, помощнику исполнительного секретаря, ответственного за отделения за рубежом, в Американский Красный Крест в Вашингтоне, округ Колумбия.
«Я хотела бы представить Вам некоторых из тех, кому владивостокское отделение Красного Креста старается оказывать посильную помощь … Елизавету Маркову, вдову одного из тысяч, убитых в Николаевске, у которой на попечении пять дочерей, причём старшей – всего четырнадцать лет. Она хорошая портниха, и ей ничего другого не нужно, кроме какой-нибудь-работы, но в городе имеются сотни других хороших портних, у которых тоже нет работы, так как у людей в наши дни нет денег, чтобы шить себе на заказ. Анна Зайцева и Прасковья Юдчиц, обе вдовы убитых владивостокских милиционеров и у обеих на руках четверо малых детей, а у второй ещё и старая больная мать, нуждающаяся в уходе, а пенсия у них – четыре иены в месяц. Устинья Дорохова, девяностотрёхлетняя старуха, которая набожно крестится над своим скромным пайком, состоящим из муки, сахара и чая, и благословляет своим беззубым ртом Американский Красный Крест как за продукты, так и за тёплую серую кофту, которую она носит. Арина Негрей, тщедушная татарочка с четырьмя малыми голодными мальчонками на руках, лишь иногда подрабатывающая стиркой белья. Она счастлива, что у неё есть небольшой огородик, и семена, которые мы ей дали, уже проросли. Хрупкая пожилая мадам Климович и её дочь, польские дворянки, которые постоянно ищут работу, которой не могут найти и которую, даже если бы и нашли, им не достало бы сил выполнять. Они уже месяцами не платят за квартиру и живут в постоянном страхе, что их выкинут из их сырого угла на улицу. Наталия Новикова, чей муж погиб в декабре, попав под автомобиль и у которой пятеро детей, причём последний родился в феврале; она живёт в землянке на Второй Речке и, несмотря на кашель (очень скверный) и ребёнка на руках, дважды в неделю ходит пешком на Седанку – а это в пяти милях от неё, – чтобы мыть полы, за что она получает пятьдесят сен. Старший сын, прелестный мальчик двенадцати лет, который иногда зарабатывает немного денег, вот уже три недели как лежит в больнице с воспалением лёгких. Евдокия Соборская, тоже со Второй Речки, офицерская вдова с восемью детьми, и у них никогда и ни разу не бывало восьми пар обуви. Старшая дочь – вдова с малым ребёнком, и два года назад ей трамваем отрезало ногу. Г-жа Соборская худеет с каждым днём, но, хоть и с великим трудом, проходит пять миль, неся на плечах тридцать шесть фунтов муки, а в руках – сало, сахар и чай. Иван Белкин, художник с длинными, изящными руками, который потерял на войне зрение и у которого пятеро детей. Когда он зарабатывает шесть иен в месяц, продавая газеты, то он самый счастливый человек, какого только можно здесь найти, ибо эти шесть иен идут в оплату за чулан, в котором он живёт с семьею. Мария Чумакова, чьи руки так изуродованы ревматизмом, что она не может двигать пальцами, а ей приходится кормить трёх детишек. Бедная Ида Роза, брошенная жена, чьё лицо в прошлом году было так опалено огнём, что её муж просто не мог на неё смотреть и ушёл по-английски. Она хочет отдать своего ребёнка на усыновление и всегда уверяет меня, что это «такой хороший мальчик». Слепая Анна Юстинцева, у которой каким-то чудом нет детей, и апатичная Дарья Козлова, глухонемая, у которой их целая куча. И последняя из них – одноглазая Пелагея Капустина, которую, когда она назвала возраст четырёх своих детей, спросили: «Это все?», а она ответила: «Конечно же нет, барыня!» – и назвала возраст ещё шестерых».
* * *
20.10.1922 «Позавчера, после того как Тед в половине четвёртого пришёл домой и мы пообедали, я вышла, чтобы пройтись и посмотреть, как выглядят улицы …и телега за телегой ехали по Светланской, гружённые чемоданами, коробками и домашним скарбом, а на самом верху в каждой – женщины и дети, иногда с домашней собачкой. Это было одно из самых печальных зрелищ, какие мне только приходилось видеть: все они бежали, спасая жизнь, на суда, чтобы выбраться из этой страны, где они родились и которой многие из них уже никогда не увидят. Сегодня, мы позавтракали рано… и без каких-либо затруднений переправились на Чуркин, где стояло судно [чтобы попрощаться с друзьями]. Вокруг него были десятки сампанов, и десятки разносчиков-китайцев предлагали всё что только можно по части провизии и фруктов, и это было как столпотворение, вышедшее из берегов. По судну невозможно было передвигаться из-за людей, а широкая главная палуба была так завалена багажом, что не нашлось бы места даже для кошки. И было так больно видеть людей, таких напуганных и в таком нервном напряжении, хотя они и находились на британском корабле. …Я задавалась вопросом, что должны испытывать эти люди – такие, как Петр [Унтербергер], – которые всю жизнь служили России, своей стране, отдавая ей все свои силы, и которые в страхе за свою жизнь вынуждены бежать за границу; …и я задавала себе вопрос, о чём они думают, глядя на эти великолепные сопки, кольцом обступающие гавань, и зная, что уезжают навсегда».
* * *
29.2.1928 «Прошлым июнем [1927 г.] в течение недели было арестовано около трёхсот человек – без всякого повода и причины – и отправлено в тюрьму ГПУ на Алеутской; где-то через месяц их перевели в обычную тюрьму. … Г-на Пьянкова продержали пять месяцев, а за что – не знает ни он сам, ни кто-либо другой; но поскольку все арестованные имели те или иные связи с иностранцами, то арест объясняют именно этим… Зная, что в ГПУ читают письма, я написала тёте [Саре] осенью, что та самая Лиза [дочь дворничихи Матрёны] сидит в тюрьме уже пять месяцев, а её муж – человек, который ударил меня, – в бегах, и я очень рада. Весь наш участок с домом и пристройками они превратили в настоящую базу для контрабанды [наркотиков], и я об этом знала, но ничего не могла поделать, потому что у меня не было веских, конкретных доказательств. Наконец я упомянула об этом в письме к тёте… и в пределах двух дней в комнате у Матрёны стали производить обыск, но, ничего не найдя, они дождались благоприятного случая, чтобы поймать её на чём-то другом».
* * *
30.7.1929 «Всё ещё стоит такой тарарам, что невозможно уснуть, и я только что выходила на веранду, чтобы посмотреть, как мимо движется факельное шествие. В Адмиральском саду был массовый митинг членов профсоюза, и они поют и маршируют весь вечер: мужчины, женщины, дети и один, по крайней мере, духовой оркестр – а может быть, и больше. … Одна толпа поёт: «Мы, советские солдаты, уничтожим всех богатых; лево держать!», что, нужно сказать, по-русски звучит лучше, чем по-английски. Другая поёт «Интернационал», который весьма неплох, а духовой оркестр где-то играет «Стеньку Разина» – получается своего рода попурри! Мне всегда нравились подобные вещи, но всё же мне хочется, чтобы они разошлись по домам и угомонились, потому что я хочу спать».
* * *
13.6.1930 «Пятница, тринадцатое, и издано распоряжение: налог в миллион триста тысяч рублей должен быть уплачен компанией «Кунст и Альберс» к двадцать шестому (это сверх сотен тысяч, уплаченных ранее), или у нас всё отнимут.
Дом Смитов, в котором жила Элеонора Прей и который до сих пор стоит в Почтовом переулке. Нажмите, чтобы УВЕЛИЧИТЬ
… Мы получим жалованье за три месяца, когда фирма закроется, и конечно же я буду жить здесь до осени, а поскольку рубли нигде больше никакой ценности не имеют, то я буду жить на них, пока они не закончатся. Этот крах для меня не такая трагедия, как для остальных – людей, в общем-то выросших вместе с фирмой, которые испытывали к ней чувство привязанности, уступавшее только привязанности к своим семьям, – и это ещё оборачивается против них.
Это значит, что с завтрашнего утра г-н Альберс больше не владеет им: магазин отнят полностью и начинается его ликвидация. Нас всех выставят, вероятно, через несколько дней – самое большее, через две недели, пока будет производиться инвентаризация».
* * *
25.10.1930 «Внизу всё готово к [прощальному] ужину, и стол смотрится чудесно: огромная розовая чаша из хрусталя с цветками львиного зева в середине и низкие чаши с львиным зевом, космосами и белыми георгинами по краям стола – их нарвали сегодня у нас в саду. Последний приём с ужином в Доме Смитов, и у меня комок в горле каждый раз, когда я вспоминаю о стольких весёлых приёмах, которые здесь бывали. Как это мило со стороны Андерсенов, что они взяли на себя все расходы и заботы по устройству ужина, но я бы предпочла уехать без него: устраивать приёмы в наши дни – задача трудная, даже такой простой, как нынешний».
Газета «Владивосток» №№ 2427 – 2433, 24.10. – 07.11.08.









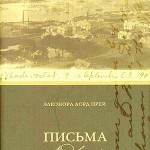








Комментарий НА "Письма из Владивостока Элеоноры Прей"