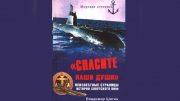Историческая повесть.
Морозным февралем 1767 года у Морского кадетского корпуса остановился занесенный снегом возок. Оттуда выбрался господин в шубе, за ним подросток. Старший постучал медным кольцом-гонгом в дверь. Открылось окошечко:
— Кто там? – прохрипели оттуда простужено.
— Кавалер и капитан Корсаков с сыном! – нетерпеливо объявил мужчина. – Отворяй живее!
— Счас! Счас!
Дверь в воротах отворилась и прибывших впустили. Охранник, не задавая вопросов, сопроводил посетителей к дежурному офицеру. Тот сидел в натопленной комнате за столом, заваленным бумагами.
— Генеральс-адъютант директора корпуса Козихин – привстал офицер, завидев входящих. – По какому вопросу и кому о Вас доложить?
— Капитан 1 ранга Корсаков! – еще раз представился господин, скинув шубу охраннику. – И доложите директору!
Адъютанту достаточно было одного взгляда, чтобы понять – перед ним отец и сын. Мальчик, как и отец, был худ и голенаст, но жилист и подвижен. Они с отцом вообще были похожи. Если бы можно было омолодить первого и состарить второго, наверное, они выглядели бы как близнецы. Понятна была адъютанту и причина, по которой заявился в Корпус флотский офицер.
— Присаживайтесь, господин капитан 1 ранга, — кивнул адъютант на стул и исчез за дверью. Через минуту вернулся:
— Его превосходительство готов вас принять незамедлительно!
— Жди! – мрачно кивнул отец сыну и шагнул в директорский кабинет.
Не выказав более никакого интереса к ребенку, адъютант тут же уселся за письменный стол и, обмакнув перо в чернильницу, продолжил, что-то писать. Мальчик, тем временем, перебрался поближе к натопленной печке, принявшись рассматривать рельефные медальоны, изображавших корабли под парусами, нереид и тритонов.
Через четверть часа прибывший вышел вместе с директором Корпуса – худощавым капитаном 1 ранга с длинным носом на узком лице и в коротком паричке.
— Ну, здравствуй Корсаков-младший! – улыбнувшись, подал тот руку мальчику. — Меня зовут Иван Логгинович Голенищев-Кутузов и я начальствую над всеми морскими кадетами. А как зовут тебя?
— Петя! – смутился мальчишка, робко пожимая директорскую руку.
— Дядьку младшей роты сюда! – велел директор адъютанту.
Адъютант, в свою очередь, кивнул посыльному матросу, и тот опрометью скрылся в глубине коридора. Оба офицера, меж тем, здесь же в приемной продолжили разговор, начатый в кабинете. Мальчик вслушивался в их диалог, но толком понять так и не смог – названия кораблей, неизвестные фамилии, а большей частью даже клички. Наконец, прибежал дядька – пожилой матрос из отставных.
— Ваше высокородие, так что прибыл! – гаркнул, дыхнув луком.
— Вот тебе новый кадет. Бери и веди на экзамен, а после в младшую роту. Покажи камеру, койку, капрального командира, да выдай аттестат.
— Будь сделано! – вытянулся в ответ отставной, одновременно заискивающе скосив глаза на старшего Корсакова.
— А ты, Козихин, поставь его на все виды довольствия! – велел Голенищев-Кутузов адъютанту.
Отец, тем временем, подошел к сыну, обнял и перекрестил. В ответ тот поцеловал отцовскую руку.
— Себя в обиду не давай, если под силу – бей сам. На обидчиков не жаловаться, иначе назовут переносчиком, и тогда горька будет твоя участь. Ну, не поминай лихом, Петруха! Как говориться, спущен корабль на воду – отдан Богу на руки! Прощай!
Корсаков-старший достал из кармана серебряный целковый и отдал переминающемуся рядом с ноги на ногу матросу-дядьке:
— Присмотри первое время, сам знаешь, как оно по первости.
— Не извольте сумлеваться, ваше высокородие, глаз не сомкну!
Вышел старший Корсаков из корпуса, вздохнул, бухнулся в возок, крикнул кучеру:
— Гони!
И умчал в метельную даль. Путь капитана 1 ранга Корсаков был не близок – в город Архангельский, достраивать, а затем и перегонять на Балтику новый линейный корабль.
Отставной же матрос, взяв младшего Корсакова за руку, повел его по темным коридорам в неведомую кадетскую жизнь.
***
Первым делом новоиспеченного кадета представили профессору Курганову, славящегося не только знаниями, но и умением распознавать будущие задатки. Курганов был одинок, жил аскетом и писал учебники по навигации и мореходной астрономии.
Курганов сидел за заваленным книгами и тетрадками столом. В старомодном видавшем виды камзоле и стоптанных башмаках с пряжками. на голове не менее старомодный маленький паричок с тощей косицей, повязанной черным бантом. Матроса с соискателем он встретил усталой улыбкой.
— Прочти-ка сей текст, — подсунул для начала профессор перепуганному Пете книгу в переплете из свиной кожи. – От сих и до сих, — чиркнул по бумаге ногтем.
Тот, взяв книгу, бегло прочел.
— А здесь? – передал ему старик еще один фолиант.
Петя снова прочел без запинки.
— Изрядно, — кивнул Курганов. – Что в арифметике знаешь?
— Считаю до мильона, умею складывать вычитать, а также умножать и делить.
— Да, неужели? – скривился старик. – Ну-ка, ну-ка…
Взяв лист бумаги и, макнув пером в чернильницу, он быстро начертал несколько примеров.
— Реши!
Бумагу Петя взял с нескрываемым страхом. А вдруг там такие задачки, которых он отродясь не видывал, вот будет-то позору! Но задачки оказались простенькими, и он с ними управился.
— Попробуем усложнить! – Курганов набросал еще пару примеров.
С этим заданием Петя так же справился, хотя и медленнее.
— Ну, а так! – вновь подвинул к нему бумагу настырный экзаменатор.
Новые примеры оказались уже Корсакову не под силу, и он покраснел.
Но Круганов ругаться не стал, а что-то пометил маленькими буквицами в записной книжице.
— Что ж, молодой человек, по крайней мере, теперь ясно до какой позиции вы обучены и с чего начинать, – сказал он, закончив писание. — Может, что-то еще знаете?
Корсаков лихорадочно принялся думать, чем же еще он может удивить экзаменующего. С плотником учился строгать рубанком и работать стамеской, но это, вряд ли заинтересует, с ребятами, будучи на рыбалке, вытащил огромного карася, но и это тоже вряд ли порадует сидящего напротив старика. Но ничего толкового придумать не смог и промолчал.
— Вердикт мой таков — в младшей роте тебе только штаны просиживать, потому пойдешь сразу в среднюю. Начальника Корпуса об экзаменации я извещу. А ты, ступай, устраивайся!
Когда дверь за новым кадетом закрылась, Курганов подпер голову рукой и задумался. Думал знаменитый профессор о том, что все же здорово, когда в Корпус приходят хорошо подготовленные мальчики. Таких учить одно удовольствие, ибо сразу видно, что толк выйдет. Вот если бы вообще принимать в кадеты не по отцовым заслугам и бархатным книгам, а по тем знаниям, каковые кандидат покажет при опросе, как бы сразу повысился уровень обучения!
Вначале Курганов даже подумал, а не написать ли ему по сему поводу служебную записку на высочайшее имя, но потом, трезво поразмыслив, от идеи отказался. Кто его там, на вершине власти будет слушать и ломать устоявшийся ход вещей. Профессор вздохнул, глянул в окно, за которым было уже почти темно, оделся и, тяжело шаркая ногами, отправился на квартиру, что снимал неподалеку от Корпуса.
***
Что касается Корсакова, то он после беседы пребывал в полнейшем смятении. Петя никак не мог взять в толк, что означали слова профессора о средней роте, ведь там же учатся большие мальчики, которые уже не один год провели в Корпусе. Хватит ли у него знаний и получится ли с кем-то подружиться.
От Курганова дядька повел Корсакова в баталерку, где забрал гражданское платье, ибо хранить его при себе кадетам не полагалось. Взамен выдал казенные башмаки, штаны с камзолом, две рубахи, три пары нитяных чулок, шляпу с бантом, да несколько платков.
— Остальное потом! – сказал хмуро. – И запомни, твой нумер 23-й! Это значит, что в сей спальне спят кадеты 2-й средней роты с 3-го капральства!
В каморе, куда привели Корсакова, находилось с полтора десятка кадетов. Несмотря на топившуюся печь, было холодно и стыло. Петя огляделся. Вдоль стен спальной комнаты стояло полтора десяток сбитых из досок кроватей, подле каждой по тумбочке. Посреди располагался длинный стол, за которым кадеты завтракали, ужинали и делали домашнее письмо. Вокруг стола лавки. За столом возле теплой печки, вольготно развалившись, восседал здоровенный рыжий детина, рядом с ним еще несколько таких же здоровых и румяных парней. Поодаль в холоде держались остальные, более младшие по возрасту. Дядька показал Корсакову его кровать, которая стояла у забитого подушками окна, принес два тюфяка – соломенный и волосяной, две подушки и толстое бумажное одеяло. Все это время Корсаков робко стоял, у своей кровати, держа в руках свой нехитрый скарб.
— Никак новенький! – со злорадным любопытством произнес сидевший во главе стола рыжий детина, едва дядька вышел. — Кто таков и откуда?
— Сын капитана и кавалера Корсакова из города Кронштадта.
— Ишь, сынок капитанский! – сплюнул на пол верзила, – Ты перво-наперво запомни, что в сей каморе самый главный буду я, а звать меня будешь Емельян Нилычем. И чтобы с почтением! Понял?
— Понял!
— А это мои подручные — Бирюк, Блоха и Сучок! – рыжий кивнул на трех сидевших вокруг него таки же великовозрастных кадет. – Они тоже тобой повелевать будут.
Петя уныло посмотрел на подручных. Судя по их ухмылкам, ожидать чего-то хорошего от Бирюка, Блохи и Сучка тоже не приходилось.
— А теперь поглядим, крепок ли у тебя загривок, – хлопнул в ладоши рыжий. — Ну-ка, Базиль! – окликнул он тихо сидевшего в дальнем углу каморы кадета. – Давай ползи сюда, будешь сейчас биться с новеньким! Предупреждаю — драка до крови!
Названный Базилем кадет, утер сопливый нос и безропотно вышел на середину, выставив перед собой маленькие сжатые кулаки. Корсаков встал напротив. Сказать, что он был в недоумении, значит не сказать ничего. Петя никак не мог понять, почему ему сейчас следует драться с совершенно незнакомым мальчиком, которому он не сделал ничего плохого и который ничего плохого не сделал ему. Причем драться предстояло не просто так, а на потребу собравшейся публики, так как все остальные кадеты, весело гомоня, уже повскакивали со своих мест, в предвкушении развлечения. У эпицентра ожидаемого зрелища поставили лавку, на которой важно уселся рыжий со своими приближенными.
— Ну, начинайте, что ли! – величественно махнул он рукой.
Петя, как было принято в кулачном поединке, собрался было поприветствовать своего противника, но не успел. Базиль неожиданно подскочил к нему и со всей силы врезал кулаком в лицо. Володя зажмурился от внезапной боли и тут же получил второй не менее сильный удар, на этот раз в ухо.
— Давай, давай, лупи новенького! – подзадоривали вокруг нападавшего.
От третьего удара он все же увернулся. Шморкнул носом и сразу ощутил в горле соленый привкус крови. Между тем, Базиль снова намеревался атаковать и уже выцеливал кулаками, как сподручнее ударить. Время терять было нельзя и Петя, в порыве нахлынувшей злости, бросился вперед. Не ожидавший столь отчаянно нападения, Базиль дернулся. А Петя уже налетел на него, и резко схватив за ворот, дал подсечку, повалив на пол. Базиль пытался, было, сопротивляться, но все было напрасно. В броске Корсаков подмял противника под себя и уже после этого ударил кулаком в лицо. Вообще лежачего бить было не в его правилах, но в данном случае он просто наказал соперника за то, что начал бой с обмана. Базиль закричал и задергал руками. Из разбитой губы хлынула кровь. Петя сразу же опустил кулак.
Вокруг свистели и орали:
— Бей, бей, пока не скажет, что покорен!
Несчастный Базиль, закрыв от ужаса глаза, в ожидании новых ударов, сучил ногами по полу, но молчал. Вокруг кричали «бей!» Корсаков отрицательно мотнул головой, и в этот момент несчастный Базиль, к его большой радости, разлепив разбитые губы, наконец-то прошептал:
— Покорен!
Поднявшись, Петя протянул руку лежавшему на полу противнику, но тот, отстранив ее, поднялся сам.
— Что ж, — резюмировал рыжий Емеля. – Первая драка, новенький, осталась за тобой. Впрочем, гордиться нечего, Базиля у нас лупят все, кому не лень. Как-нибудь выставлю противника посильнее. Посмотрим, как справишься.
После этого рыжий потерял к Пете всякий интерес. Маленькие кадеты показали, как пройти в умывальню. Рядом, хныкая от боли и обиды, смывал свою кровь несчастный Базиль. По негласному правилу теперь ему предстояло всю ночь подкладывать в печь дрова, а значит толком не спать.
Вернувшись, Корсаков стал стелить постель и, к своему удивлению, не нашел подушки.
— А где она? – спросил у кадета с соседней койки.
— Все подушки забирает Емеля, — ответил тот тихо, косясь на рыжего, чья кровать стояла у самой печки.
— Зачем ему столько подушек? – удивился Володя.
— Он ими затыкает окно, которое напротив его постели, чтоб не дуло! – шепотом ответил тот.
Корсаков поглядел. Окно напротив кровати, где уже улегся рыжий, и в самом деле было заложено подушками.
— Кто там гундит в углу и мешает мне спать? – раздался раздраженный голос рыжего. – Новенький? Ну, я с тобой завтра разберусь!
— Побитый! Гаси свечу!
Несчастный Базиль задул горевший огарок.
Емеля громко зевнул, шумно испустил ветры и уже через минуту захрапел.
Укрывшись сразу двумя одеялами, чтобы хоть немного согреться и вслушиваясь в богатырский храп Емели, Петя с тоской понимал, что испытания для него еще только начались.
***
Староста 23-го нумера Емеля от природы был нагл, но туп. Вид имел соответствующий: рыжие волосы торчали в стороны неопрятной паклей, а нижняя губа свисала книзу. Зато к двадцати годам вымахал рыжий ростом в косую сажень. Кулаки же имел, что шестифунтовые ядра.
В Корпус Емелю взяли благодаря тому, что его отец, занимавшийся поставкой флотской пеньки, (и как говорили, хорошо на этом наживавшийся), сделал себе за немалые деньги в геральдической коллегии потомственное дворянство, а потом пристроил учиться на «его благородие» и своего отпрыска.
По бумагам рыжий значился вовсе не Емелей, а Иваном Емелиным. Но имя Емеля Ивану нравилось больше. У сказочного Емели жизнь была распрекрасная и щука волшебная, и печь-самокатка и дочка царская. А что Иван — всегда вокруг дурак!
При поступлении Емеля не знал ни грамоты, ни счета, зато умел за себя постоять так, что тумаки его познала даже старшая рота. При этом, по причине очевидной тупости и непроходимой лени, Емеля сразу попал в разряд «козлищ» и был посажен на «точку». «Точкой», вернее «точкой замерзания», на корпусном жаргоне именовали класс для откровенных неучей. На «точке» учили элементарным вещам: знать азбуку и считать на пальцах. Кто-то отсиживал на «точке» год, кто-то два. Емеля и здесь отличился, проторчав там четыре года, после чего отсидел еще столько же в классе младшей роты. Кого-то, наверное, это удручало, но только не Емелю. Он, наоборот, гордился своим статусом «непробиваемого», и наслаждался жизнью, единолично царствуя в своей каморе, ни в чем себе не отказывая. Покупал у сторожей вино, которое распивал с дружками. курил табак, бегал по ночам к девкам портомойкам, дававшим за гривенник, и с большим удовольствием разбивал носы тем, кого считал умнее себя, а таких всегда хватало с избытком. Изображая из себя «старика», Емеля носил собственные широкие брюки, щегольские лаковые портупейки с медным набором, что считалось среди кадетов высшим шиком.
Царствовал Емеля с размахом. Заставлял мальчишек себя обстирывать, воровать дрова на растопку печи. По вечерам устраивал попойки с потешными кулачными боями, отчего почти все в роте ходили с фингалами под глазами и разбитыми губами. Ротный командир, все прекрасно понимавший, увидев очередного страдальца, лишь иронично кивал головой:
— Снова с лестницы упал?
— Так точно! – уныло отвечал кадетик.
— Под ноги смотреть надо лучше! – советовал ему ротный и спешил дальше.
Чтобы царствовалось веселее, Емеля окружил себя соответствующей свитой, которая, как это обычно бывает, издевались порой над кадетами еще более изощренно, чем повелитель.
Что касается кадетов средней роты, то все они Емелю откровенно ненавидели, именуя меж собой не иначе, как «рыжим», но одновременно и панически боялись.
Корсаков Емеле не понравился с первого взгляда. Во-первых, всех новеньких, по его разумению, надлежало сразу ставить на колени. Ну, а то, что новенького определили, минуя младшую, сразу в среднюю роту, Емеля воспринял, как личное оскорбление. Сам он за восемь лет едва добрался до середняков, а какой-то недомерок проделал его тернистый путь в один день. Но с этим он еще разберется. а сейчас, пуская пузыри, Емеля храпел на всю ивановскую.
***
В ту, первую свою ночь в Корпусе, заснуть Пете сразу не удалось. Некоторое время он ворочался в постели, думая, как быть дальше. И отец, и дед не раз наставляли, что к людям надо с добротой и лаской, а как с лаской, когда на тебя кричат и стращают. Петя аж зубами заскрипел, так хотелось дать рыжему по сусалам. Но кто знает, какие в Корпусе правила? Может, так здесь новичков всегда привечают. Наконец, решил он для себя, надо будет потерпеть и присмотреться. Глядя в темный потолок, Петя помолился, помянул за здравие отца Раба божьего Ивана, а матушку и двух дедов своих за упокой.
Дедом по матери у Пети был знаменитый адмирал Матвей Змаевич, но Петя его не знал, так как тот помер задолго до его рождения. Мать часто вечерами рассказывала сыну о подвигах своего отца. Мальчики обязаны знать свою родословную, чтобы не только гордиться ей, но и подражать своим славным предкам. Что касается Матвея Змаевича, то судьба его была примечательной. Происходил Змаевич из богатого и знатного рода далматинского городка Пираст. Был отличным мореходом, удачно дрался с барбарийскими пиратами, отличался отвагой и буйным нравом. После дуэли, на которой он нанизал на шпагу далматинского вельможу, Змаевич бежал из отечества, потом сидел в турецкой тюрьме, оттуда снова бежал, после чего поступил капитаном в балтийский галерный флот, понравился царю Петру и вскоре уже начальствовал над всем галерным флотом. Змаевич отважно дрался в Гангутской баталии, получал высокие чины и состоял под следствием, бывал в опале и снова возвышался. До последних своих дней сохранил дед нетерпимость к неправде и рубил правду-матку в глаза всем, не взирая начины, за что был и уважаем, и ненавидим. Умер Матвей Змаевич в Таврове во время приготовления к очередной турецкой войне. Матери осталось от него село Ситенка под Москвой, золотой крест с алмазами да портрет.
У деда Матвея с бабкой Анной детей было много, но выжила только последняя дочь Мария, которую и сосватал мичман Корсаков. Жених был не богат, зато имел хорошую репутацию, что и определило согласие вдовы Змаевич на свадьбу.
Что касается деда по отцу, то тот дослужился только до подпоручика, а потом уволился в деревню. В отличие от материнского деда, отцовского Петя помнил хорошо, потому как в его именьице они по большей части и жили. Мать боялась сырого Кронштадта, стараясь держать малолетнего сына в подмосковной Ситенке на парном молоке, да на домашних пирогах. Дед Корсаков слыл на всю губернию большим любителем кулачного боя. Дворовые говорили, что до шестидесяти лет становился дед в боевую стенку, да еще не кем-нибудь, а зачиналой. Пока отец в морях обитался, а дочка учила внучка болтать по-иноземному (чего дед никак не ободрял – зачем лясы точить, когда кулак есть!), он тоже занимался воспитанием маленького Петруши. Учил его, как драться по-старинному, по-охотницки «за вороток», причем не просто так, а в одноручку, учил биться с носка, приговаривая:
— Москва завсегда бьет с носка, а Питер бока повытер!
Внушал, что кто «за вороток» и «с носка» биться хорошо обучен, тому противник, который дерется по-мужицки «в охапку», всегда нипочем! Учил дед внука и кулачному бою, куда и как бить, как передвигаться и уклоняться, наказывал при этом правила соблюдать строгие:
— Лежачего никогда не добивать, ибо лежачий в драку не ходит. После мазки (крови) и с крыла (с боку) лупить тоже не моги, ибо сие не по-христиански!
Ну, а самое главное, что говаривал дед Алексей Прокопыч, чтобы тот силу свою и сноровку никогда во вред людям не являть, а лишь для защиты слабых, да, разве, когда еще, по рукам в спор ударят.
Несколько раз водил дед маленького Петрушу и кулачные бои смотреть. Сам он был к тому времени уже стар и не бился, но переживал азартно, молодцов подбадривал прибаутками, а слабаков словом крепким.
Незадолго до смерти позвал дед внука и стал подробно рассказывать ему чести дворянской. Говорил, что если бы пошел в холуи к генералу немцу, то непременно бы в полковники выбился. Но предпочел ходить с поднятой головой, хотя и в чине малом. Рассказывал Петруше, что род Корсаков — древний, но, увы, обедневший. О фамилии родовой дед говорил так
— Корсак – есть степная лисица, выносливая и осторожная. Таковы и все мы Корсаковы. А ударение в нашей фамилии следует ставить на первом слоге!
Читал ему дед из Бархатной книги, что вел их род свое начало от некого чеха Жигимунта Корсака, пришедшего в Москву в свите Софьи Витовтовны, жены великого князя Василия Дмитриевича Московского. От Жигимундова сына Вячеслава и пошли Корсаковы, а от сына Милослава — Милославские. От этого же рода произошли позднее и князья Дондуковы.
Впрочем, обилие знатной дальней родни ни на благосостояние, ни на карьере, ни самого Алексея Прокопьевича, ни его сына Ивана Алексеевича, ни сказалось. Мало ли на Руси родовитых, да бедных! Поэтому каждый свой чин и каждую должность добывал Иван Корсаков в поте лица своего.
Был Иван храбр и свободолюбив, а потому начальство назначало его сразу же капитанствовать над малыми судами. Потому Иван Корсаков и плавал ежегодно от Кронштадта до Архангельска на пакетботах и гальетах, на пинках да шнявах. Когда тонул в шторм, последним прыгал в море с со шпагой в зубах. В Кольбергских компаниях состоял адъютантом при адмиралах Мишукове и Полянском, но не усидел, и храбро дрался в десанте с пруссаками. Затем командовал уже фрегатами и кораблями линейными.
Счастье с супружницей тоже пришло не сразу. Несколько детей, которых рожала Мария, умерли один за другим еще в раннем детстве. Только в 1757 году судьба, наконец-то, сжалилась над Корсаковыми и родившийся мальчик, нареченный Петром, выжил, став отрадой матери в ее последние годы. Именно Пете отдала мать свое сердце и душу, учила грамоте и языкам, рассказывала о чести и доблести знаменитого деда. В 1766 году Мария Матвеевна скоропостижно сгорела от чахотки, и обремененный службой капитан Корсаков, решился отдать сына в Корпус на казенный кошт.
Что же, касается деда, то уже помирая, он благословил внука и прошептал:
— Будь добрым и к людям ласку имей, но и честь береги смолоду. Ежели надо, то и в кулаки становись смело. Корсаковы завсегда верх держали над иными прочими! И запомни – тиранствовать над людьми никто не властен!
С тем в мир иной и отошел…
***
За замерзшим окном еще было темно, когда дежурный унтер-офицер распахнул дверь в камору и прокричал: «Подъем!»
Посреди каморы уже стоял дядька, но не тот, который встречал Корсакова и которому отец дал целковый, а другой. Был он, как и все дядьки, из отставных матросов.
При себе дядька, как ему и было положено по штату, носил хлыст, которым без малейших сомнений перетягивал, всех, кто еще не вскочил вовремя с кровати.
Сонные кадеты с закрытыми глазами заправляли кровати, потом бежали справлять нужду и умываться ледяной водой.
Уже в умывальне узнал Корсаков, что грозного дядьку с хлыстом звали Кузьмой и отличался он любовью к выпивке и буйным нравом. На Кузьму много раз жаловались, но ему все сходило с рук, потому что когда-то, прыгнув за упавшим в море будущим директором Корпуса, его спас, и тот Кузьме прощал любые прегрешения.
Кроме этого Петя успел узнать, что Кузьму давно купил с потрохами рыжий со своими дружками. Они платят ему водкой, за что Кузьма их нарушений не замечает, а лупит только младших. Поведали ему новые товарищи, что права у дядек вообще беспредельные. Единственно, что по младости лет запрещается им бить кадет кнутами. Вместо этого младшую и среднюю роты охаживают кошками да хлыстами, а старшую батогами…
Умываться надо было быстро, так как лоханок на всех не хватало, и у каждой образовалась очередь.
После этого оделись, заправили постели, навели порядок в тумбочках, приготовили тетрадки, да перья с чернилами к занятиям. В тумбочках кадеты держали лишь необходимое: кусок мыла, полотенце, расческу, да тетрадки с гусиными перьями и чернильницей, остальную хурду — в кисах, больших холщевых мешках, хранившихся в ротной баталерке, которой заведовал дядька.
Затем все выстроились во фронт. Корсаков, как новенький, пристроился на левом фланге. Появился дежурный корпусной офицер, тоже, как и все остальные, заспанный, а потому и злой. Приказал:
— Руки к осмотру!
Кадеты вытянули перед собой руки ладонями вверх. Офицер быстро прошел вдоль строя. Ткнул пальцем:
— Ты и ты! Руки грязные!
Провинившиеся понуро опустили головы.
— А у тебя пуговица оторвана, да и фонарь под глазом. Дрался? – подошел офицер к бедолаге Базилю.
— Никак нет, упал с лестницы! – отрапортовал тот дежурно.
— Все трое сегодня без булок!
Шедший следом унтер не без злорадства переписал фамилии.
— Радуется гад, что сегодня оставшиеся булки сам сожрет! – прошептал на ухо Корсакову стоявший рядом маленький кадетик Митя.
— Разговоры в строю! Еще кто-то хочет быть без булки? – оглянулся офицер.
Маленький кадетик испуганно замер, хлопая глазами. Но обошлось. Офицер отправился осматривать младшую роту.
Завтракали здесь же в своей каморе. Раздалась команда:
— За столы!
Только на завтраке Петя понял насколько это жестоко — оставить без булки. Провинившимся оставалось только пить не слишком горячий и не слишком сладкий чай, который разливали в кружки из здоровенного медного самовара…
А пшеничные булки были преотменные, горячие и большие, почти в полный фунт. Их, наложенные горкой на подносе, нес толстомордый повар в белом колпаке, раздавал же дежурный гардемарин, сверяясь со списком провинившихся. Булка, которую дали Корсакову была так вкусна, будто и у маменьки такой не едал. Он почти уже расправился с доброй половиной, когда поймал голодный взгляд сидевшего напротив несчастного Базиля. Тот уже выпил свой чай, и теперь просто сидел за столом, ожидая команды встать. Он, как мог, старался отвести взгляд от поедавших свои булки товарищей, но краем глаза все равно жадно смотрел на них. Увидев это, Корсаков не раздумывал и протянул оставшийся кусок Базилю:
— Возьми, я уже наелся!
В тишине, нарушаемой лишь чавканьем особо ретивых кадет, произнесенные слова услышали все. Вся дюжина сидевших за столом разом прекратила жевать, с удивлением воззрившись на отказника. Еще бы, булки были главным мерилом кадетского счастья и главной кадетской валютой, о них мечтали холодными ночами и на долгих уроках, а потому вот так запросто делиться своей булкой было не принято.
Базиль отрицательно покачал головой:
— Не возьму, мне отдавать нечем!
— А ничего и не надо, — пожал плечами Корсаков. — Я просто с тобой поделился. Еще Христос говорил….
— Это кто у нас тут Христа вспомнил! – привстал со своего места рыжий Емеля. – Опять что ли новенький! Все никак не угомонишься. Ну, погоди у меня до вечера!
Не обращая внимания на Емелю (до вечера еще далеко), Корсаков все же всучил Базилю кусок булки и тот яростно впился в нее зубами.
После завтрака ударил колокол, кадет развели по классам. Урок длился два часа. Снова колокол и из арифметического класса перешли в грамматический. В полдень очередной колокол – шабаш. В течение получаса кадеты отдыхали. Кто-то чистил платье, кто-то читал, но большинство, завалившись на кровати, предпочитали еще чуть-чуть поспать. Затем опять колокол. Все быстро построились во фронт и всей ротой отправились в парадный зал, где выстраивался весь Корпус. Корсаков вертел головой по сторонам. Зал был огромным, что в нем одновременно уместились сотни кадет, да еще столько бы поместилось. С потолка свисали преогромные (в рост человека) хрустальные люстры с подсвечниками внутри. У задней стенки стояла модель преогромного корабля под парусами, мачты которого упирались в потолок. Весь зал был уставлен длинными столами с лавками, за которые садились по двадцать человек. Когда по команде все стали разбегаться по своим столам, Корсаков было замешкал, куда бежать ему, но маленький конопатый кадетик Митя, что стоял во фронте рядом с ним, схватил за рукав:
— Давай за мной, за нашим столом как раз есть место!
Обед раздавали повара под командой все того же дежурного гардемарина. Вначале подали щи с куском говядины, на второе гречневую кашу с маслом и свежий хлеб (который пекли прямо в Корпусе) и, наконец, сладкий квас, который каждый черпал из стоявших на столах огромных серебряных ендов.
— Хлеба можно еще просить на добавку, — доверительно сообщил Корсакову Митя, — по праздникам дают еще пирожные или оладьи с медом, а на Рождество, Пасху и в годовщину Корпуса жаренных гусей с яблоками.
После упоминания о гусях оба вздохнули.
От обеда вышли фронтом. В два часа классы продолжились. Слушая преподавателей, Корсаков был приятно удивлен, что вполне понимает объясняемый материал, а значит, не будет ходить в козлищах.
После обеденного отдыха преподавали фехтование, по субботам вместо фехтования — танцкласс. Из классов окончательно вышли лишь в 6 часов. В половине 8-го ужин в два блюда — щи с говядиной и гречневая каша с маслом. Вечернего чая не полагалось. Желающим разрешалось пить собственный, но не в ротных помещениях, чтобы не возбуждать у других зависть, а в людской, где жили корпусные служители. Но этим, по понятным причинам, пользовались лишь старшие кадеты да гардемарины.
Честно говоря, вечера Корсаков ждал с трепетом душевным, ведь Емеля обещал с ним разобраться. На как-то обошлось, видимо, у того нашлись более неотложные дела.
***
Так началась нелегкая кадетская жизнь кадета Петра Корсакова. Дни шли за днями и все они были заполнены учебой так, что продыху не было никакого.
В свободное время кадеты играли в городки и в «житки» – один подавал мячик, другой бил его по очереди, а третий стоял в поле и должен был поймать мячик на лету. По воскресеньям кадет водили в корпусную церковь, где красиво пел хор певчих, составленный из самих же кадет, причем пели не только духовное, но и светское, что всем особенно нравилось.
В первые дни своего пребывания в Корпусе, Петя старался меньше говорить и больше слушать, впитывая в себя, как губка, информацию о кадетской жизни, прежде всего, о негласных правилах поведения и взаимоотношениях, царивших в Корпусе. Будучи от природы сообразительным, он сразу понял, что от того, как быстро он усвоит эти правила, будет зависеть вся его дальнейшая кадетская жизнь. В целом корпусные правила были нехитрыми, но требовали осторожности и внимания.
Старшая кадетская рота господствовала над средней, средняя рота господствовала над младшей. Это было старой традицией Корпуса. Старшие заставляли младших чистить себе платье и обувь, бывало, что и сдобные булки отбирали. В свою очередь, над всем Корпусом единолично властвовала гардемаринская выпускная рота. Будучи без пяти минут офицерами, гардемарины, следили только за порядком и сохранением традиций, не унижаясь до драк с младшими. Они просто не замечали снующую у ног мелюзгу. Если, когда в гардемаринской среде и возникали рукопашные, то только когда младшая гардемаринская рота бунтовала против старшей, но такие мятежи случались нечасто. С переходом в гардемаринские роты нравы несколько смягчались. Молодые люди, готовясь в офицеры, старались уже не походить на «старикашек» кадетских рот.
Помимо старшинства рот, в каждой роте выстраивалась и своя собственная иерархия, сообразно силе того или иного кадета. Все решалось в нескончаемых жестоких кровавых драках, именовавшихся гордо – поединками. На поединок каждый мог вызвать каждого, а потому часто очередной лидер бывал жестоко побит, уступая свое место удачливому претенденту. Самых знаменитый и удачливых поединщиков знал и ценил весь Корпус. О некоторых драках слагали не только легенды, но и целые поэмы.
Корпусных офицеров кадеты видели редко. Те дежурили по неделям, и при воспитанниках бывали только во время обеда, ужина, да до привода в классы… Все остальное время мальчики полностью зависели от настроения своих дядек, да старших кадет. Усвоил Петя и старое кадетское правило, что правильный кадет всегда держится подальше от начальства и поближе к камбузу.
Заслышав, как старшие кадеты делятся между собой «воспоминаниями» о былой жизни, Петя всегда старался замедлить шаг и послушать умных людей.
— Теперь Корпус уж не тот, что раньше, — делились воспоминаниями «старики». – Вот во времена Петра Великого кадетство было куда отчаяннее. Наши не только «на кулаках» всю округу держали, но и на Невском по ночам душегубили. А потом гулянки устраивали знатные, с выпивкой и жратвой от пуза.
— Ну, а ежели ловили? – с почтением спрашивали младшие кадеты.
— Кого ловили, того под батоги и в матросы навечно, – назидательно поясняли старшие.
Перед сном кадетские роты строились подле своих спален и по команде дядьки хором пели «Оду розге», которую по преданию сочинил сам царь Петр:
Розга ум вострит, память возбуждает,
И волю злую во благо прилагает,
Учить Господу Богу молити,
И рано в церковь на службу ходите.
Не вредить костей, телу болезни не родить,
Но злые нравы от юных отводить.
Душу от огня вечно сохраняет
В небесную же радость водворяет …
Дети целуйте розгу и лобзайте!
Она безвинна…Не проклинайте
И рук же Вам язвы налагают,
Ибо не зла Вам, но добра желают.
И хотя Петя прекрасно понимал, что царь Петр такой ерундой вряд ли на самом деле занимался, слова выучил уже на второй день и горланил «оду» что было мочи вместе со всеми. В противном случае можно было прямо на месте наглядно познакомиться с предметом песни. Впрочем, как рассказали старожилы, «ода» обладала волшебной силой — если во время порки сию песню повторять про себя, как молитву, то будет не так больно.
И хотя порки Корсаков пока не заслужил, одна мысль о ней внушала ему ужас. Из дежурной комнаты, где секли наказанных, каждый день слышались вопли воспитанников. Дежурный барабанщик не успевал припасать свежие розги. Экзекуции производились быстро. Два дюжих матроса растягивали виноватого на скамейке, держа его за руки и за ноги, двое других с обоих сторон изо всей силы лупили розгами, так что кровь текла ручьями и тело раздиралось на куски. Давали до сотни ударов и даже более, так что порой наказанных волокли прямо из дежурки в лазарет. Другим способом наказания был арест «в пустой», как тогда назывался, карцер. Кормили в «пустой» только хлебом и водой. Сам карцер располагалась возле отхожего места, а потому воняло там невыносимо. Ну, а главной бедой «в пустой» были здоровенные злобные крысы, то и дело норовившие покусать задремавшего кадета.
Впрочем, закаленные суровым бытом кадеты, к розгам относились, как к неизбежному злу. Бояться розог и плакать при порке читалось позором. Наибольшим уважением пользовались так называемые «чугунные задницы», кадеты, которые не только не плакали при порке, но всем своим видом демонстрировали полное презрение к творимой над ними экзекуции и даже смеялись.
Спартанские нравы развили в кадетском сообществе необычайную спайку. Принцип «не выдавания» товарищей проводился неуклонно. Начальство, расследуя какую-либо проказу, несмотря на самые жестокие истязания заподозренных, не могло добиться никакого другого ответа кроме «не знаю».
Что до начальства, то оно считало розги наказанием весьма либеральными, т.к. еще совсем недавно за серьезные проказы кадет садили на «буй». Так назывался тяжелый обрубок толстого дерева, к которому был прикован один конец цепи, а другой, оканчивающийся ошейником, запирался на шее провинившегося. Так и сидел провинившийся целые сутки, силясь понять дворянский ли он сын, или собака на привязи…
Вечерами, когда укладывались спать, рассказывали кадеты друг другу страшные истории о призраках и вурдалаках. Однажды вечером Базиль шепотом рассказал Пете и самую страшную корпусную легенду. Все произошло еще во времена императрицы Анны Иоанновны. Тогда один кадет наябедничал на своих товарищей. Весь Корпус тут же объявил ему бойкот, которого ябеда не вынес и в одну из ночей повесился на чердаке. С тех пор по ночам по Корпусу бродит его белый призрак и бросается душить тех, кто подличает по отношению к сокурсникам. Призрак белого кадета видели многие, но из-за того, что никто из них не подличал, призрак сей их не трогал, а некоторым даже подмигивал своим страшным оком…
От рассказов таких у Пети сразу мурашки по спине. А когда вспомнил, что на ближайшую ночь назначен в пожарный дозор, обходить ночью лестницы и коридоры корпусные, то и вовсе приуныл. Нет, совесть его была чиста, но встретиться ночью с призраком повешенного кадета, честно говоря, было страшно.
— Да врет он все! – громко прошептал Корсакову спавший с другой стороны конопатый Митька — Нет никаких белых призраков, и не было никогда!
— А ты возьми да проверь! – еще громче подал голос Базиль.
— Это кто там никак угомониться не может! – раздался рык Емели. – А то я счас дело-то найду!
Все трое сразу притихли и, накрывшись с головой одеялами, поспешили уснуть.
***
Спустя пару недель на уроке французского Петя отличился. Увидев новичка, преподаватель спросил, учил ли он язык раньше, на что Петя ответил утвердительно. После чего преподаватель задал несколько вопросов, на которые Корсаков легко ответил. Француз начал задавать все более сложные вопросы, но Корсаков ответил и на них.
— Садись, — удовлетворенно кивнул француз, – наконец-то среди вас появился хоть один, с которым можно сносно общаться. — Et maintenant, écoutez notre fou principal! Monsieur Emelin, votre chemin! (Ну, а теперь послушаем нашего главного дурака! Месье Емелин, Ваш выход!)
Разумеется, тугодумный Емеля ничего путного сказать не смог, лишь что-то промычал.
На уроках учителя обычно лупили особо нерадивых линейкой по голове, а в младшей роте даже ставили голыми коленями на горох. Но Емеля был уже здоровенным мужиком, и француз ограничился лишь словами, зло посмеявшись над ленивцем и неучем. Однако его никто не поддержал. Сидевшие в классе прекрасно понимали, что смеяться над рыжим себе дороже. Единственно, кто не удержался, был Петя, который прыснул в кулак. В ответ Емеля показал поросший волосами кулак.
Гораздо более трудным, чем французский язык, оказалось фрунтовое ученье, на котором ефрейтор, (из старших кадет) немилосердно бил не умевших хорошо маршировать по спине и плечам тонкой палкой. Перепало и Корсакову. Тут обида было тем сильнее, что на нее нельзя было и жаловаться.
В тот день Емеле вообще не повезло. После французского урока была математика, на которой учитель так же вызвал Емелю к доске и тот, разумеется, не смог решить простейшей задачи. Потом, как назло, вызвали Корсакова, и он справился.
Преподаватель, покачав головой, ткнул пальцем в понурого Емелю и назидательно сказал:
— Любите науку, братцы для самой науки, а не для того, чтобы надеть эполеты. Невежда офицер похож на животного… под золотым чепраком с длинными ушами. Смотрите на Емелина – вот вам наглядный пример!
Когда Корсаков, вернувшись от доски, сел за парту, Базиль прошептал ему:
— Не иначе сегодня быть беде!
— Это от чего же? – не понял Петя.
— А ты посмотри на рыжего!
Петя скосил глаза в сторону парты, где сидел рыжий и онемел. Емеля буквально буровил его злобным взглядом, конвульсивно сжимая и разжимая кулачищи.
На переменке проходивший мимо Пети подручный рыжего Бирюк, небрежно бросил:
— Ну и нарвался ты! Теперь за твою жизнь никто и полушки не даст!
Остаток дня прошел для Пети как в тумане. Он что-то делал, писал, отвечал на заданный урок, но мысли его были далеко. Неминуемое должно было произойти вечером перед сном. И это время неумолимо приближалось…
Перед сном Корсаков постарался, как можно дольше задержаться в умывальне и в коридоре, понимая, что его ждет в каморе. Наконец, обходящий Корпус дядька прикрикнул:
— А ты чего тут один шляешься, давай бегом в кровать и на боковую!
Зайдя в спальню, Корсаков попытался было незаметно юркнуть к кровати, но не удалось. Емеля его уже давно поджидал. Сидя на лавке, крикнул:
— Эй, босяк – ноги в раскоряк, беги сюда, будешь с меня сапоги сымать! Да запомни — отныне сие будет твоей обязанностью! А спать отныне будешь под лавкой!
Подручные Бирюк, Блоха и Сучок разразились смехом:
— Ну, ты даешь, Емельян Нилыч, повеселил честной люд! Прям животы надорвешь!
Петя стоял, совершенно не представляя, что делать дальше. Сердце бешено колотилось, во рту было сухо. Он пытался сглотнуть слюну, но из этого ничего не вышло. В каморе царила полная тишина. Все смотрели на него. Кто с облегчением, что сегодня Емелин жребий выпал на другого, кто, в ожидании представления, кто просто с интересом.
— Ты что, нюх потерял! Давай-давай, мне уже отдохновиться от трудов праведных пора!
Емеля, развернувшись, облокотился спиной на стол, вытянул вперед ноги в грязных сапогах, глянул на них:
— И чтобы к утру блестели что самовар трактирный!
— Гы-гы-гы!!! – снова заржали прихлебатели.
Корсаков, опустив голову, медленно направился к Емеле. Он еще не знал, что будет делать в следующее мгновение, но уже понимал – снимать и чистить сапоги он не будет, пусть хоть смерть! Затылком Петя ощущал, как сгустилась вокруг звенящая тишина. И тут он вспомнил деда своего Алексея Прокопыча и слова его последние. Набрал воздуха в легкие, вскинул голову и что было силы, и выкрикнул в лицо рыжему:
— Тиранствовать над людьми никто не властен!
— Чаво-чаво! – захлопал белесыми глазами Емеля.
— Оно говорит, что сапоги сымать тебе не желает! – тут же с ехидством разъяснил рыжему, сидевший рядом на лавке Бирюк.
— Это как не желает! – вскочил на ноги Емеля и бросился к Корсакову — Да я тебя сейчас!
И тогда Петя, выкрикнул фразу заветную, от которой и самому страшно стало:
— Вызываю тебя Емеля на честный ваган! Кто побит будет, тот и сапоги чистить станет!
По каморе прокатился глухой гул. Бирюк, Блоха и Сучок разом вскочили, ошарашено переглядываясь. И было от чего! Корсаков вытворил такое, чего никто еще из них не видывал. Шутка ли, младший кадет бросил при всех вызов старшему!
Емеля дернулся было к Корсакову, но даже до него дошло, что ситуация переменилась. На рыжего было страшно смотреть. По мгновенно вспотевшему лицу стекал пот, он мотал головой, что-то мычал, вращая налитыми кровью глазами. Вызов на ваган – был вызовом на честный благородный поединок, а коль этот вызов сделан, вызываемый обязан по кадетскому кодексу ответить — «ваган принял», иначе быть ему последним козлищем, что и руки никто не подаст. Более того, Петя, сам до конца того не понимая, обозначил и ставку будущего поединка – побежденный обязан чистить сапоги победителю. Теперь, согласно всем традициям, ни отменить поединка, не изменить ставку уже не мог никто. Впрочем, Корсаков, объявляя ваган, все же одно негласное правило нарушил — кадеты всегда вызывали на поединки только равных себе – младшие — младших, средние — средних, а старшие — старших. Здесь же двенадцатилетний кадетик бросил вызов девятнадцатилетней детине. И поэтому, хотя вызов был брошен, никто из находящихся в спальне не мог сказать, что будет дальше.
Петя перевел дух. Окинул взглядом камору. Все смотрели теперь только на него. В одних взглядах он читал затаенный восторг, в других откровенный испуг, в-третьих просто злорадство. Петя попытался изобразить улыбку, но та получилась вымученной и жалкой. Он собрал всю волю в кулак.
«Теперь, по крайней мере, сегодня меня уже никто не тронет», – подумалось ему с некоторым облегчением, ибо по кадетским правилам, после объявления вагана, какие бы то ни было склоки между поединщиками, были строжайше запрещены. Разрешалось лишь оговаривать место и время будущей драки.
Стараясь не показывать волнения, Петя медленно развернулся и направился к своей кровати. Предательски дрожали руки. Чтобы этого никто не заметил, он быстро засунул их в карманы кафтана. Спиной он чувствовал ненавидящий взгляд Емели, который сейчас просто не знал, как ему поступать дальше.
У кровати Петя развернулся, чтобы довершить начатое:
— Так что, Емеля – черт рыжий, ответишь на мой ваган или холка слаба?
Этими словами он буквально пригвоздил недруга. Емеля взвизгнул и кинулся, было, к Корсакову, но тут уж вся камора подняла шум:
— Нечестно! Противу правил! Ваган уже объявлен! Старики узнают — мало не покажется!
И Емеля остановился.
— Какой еще ваган с молокососом! Нет такого правила! – пытался он хоть как-то сохранить лицо.
— Опять ты в дураках, Емеля, — оставил за собой последнее слово Корсаков, — Столько лет в корпусе штаны просиживаешь, а не знаешь, что любой, объявивший ваган, может драться, потому как все кадеты перед Богом равны.
Сейчас он откровенно блефовал, так как, будучи новичком, не знал всех тонкостей кадетских традиций, но он знал другое – туповатый Емеля их тоже не знает.
Бирюк, Блоха и Сучок, обступив Емелю, горячо совещались, как быть. Наконец, Бирюк провозгласил вердикт:
— Завтра поутру пригласим законников с гардемаринской роты. Они и скажут, быть вагану или нет!
Забравшись под одеяло, Петя с удовлетворением смотрел, как Емеля сам стаскивал с себя сапоги. Те не стаскивались. Емеля матерился. Наконец, он стащил второй и в сердцах швырнул его в дальний угол:
— Убью собаку! – крикнул сапогу.
Камора молчала, все понимали, что кричал рыжий вовсе не улетевшему сапогу, а тому, кто только что, очертя голову, бросив ему вызов.
Повернувшись на правый бок, и подложив под голову руку, как когда-то учила маменька, Петя постарался прогнать мрачные мысли о том, чем может закончиться для него завтрашний день. Последний выкрик Емели не оставлял сомнений — придется несладко, может и в самом деле, настанет его последний денек. Единственное, что утешало — сегодня он выстоял, а это было пока самым главным.
***
Вначале утром после подъема все было, как всегда. Петя видел моющегося неподалеку Емелю, но тот демонстративно не замечал своего вчерашнего обидчика. Емеля вообще был тих, никого не оскорблял, не раздавал пинков с подзатыльниками. Хмурыми были и Барсук с остальными. Однако уже на утреннем построении и на переходах между классами Корсаков почувствовал повышенное внимание к своей особе. Нет, с ним никто ни о чем ни заговаривал, но он ощущал, как за его спиной шушукались, показывали пальцем. Новости в Корпусе распространяются мгновенно, поэтому весь Корпус уже знал – новичок вызвал на ваган «старика». Одних в данном случае интересовал правовой момент, а имел ли новичок на то право, других, более кровожадных, только предстоящий бой.
Гардемаринский суд был назначен на послеобеденное время, когда кадеты отдыхают обязательный «адмиральский час». Едва прозвучала команда разойтись по своим каморам, и обитатели 23-го нумера приготовились отдать должное богу Морфею, как к ним вошли трое старших гардемарин. Они с брезгливостью окинули взглядом, сидевшую и лежавшую на кроватях мелюзгу, которая при их появлении разом вскочила с кроватей. Старших гардемарин кадеты были обязаны приветствовать только стоя!
Со своей кровати не поднялся один Емеля. Когда-то он учился с сегодняшними старшими гардемаринами в одном классе, поэтому считал их себе ровней. Это было непростительной ошибкой. Хотя гардемарины, при встрече в коридорах, по старой памяти, вполне демократично здоровались с Емелей за руку, вставать во время официального визита, обязан был и он. Разумеется, откровенный демарш Емели не прошел незамеченным. Гардемарины переглянулись, но промолчали.
— Всем можно сесть! – со значением сказал один из них, крепкий черноволосый парень с веселыми глазами, по-видимому, самый авторитетный.
Все уселись. Остался стоять лишь Корсаков. Такое решение он принял по той причине, что коль столь уважаемые люди пришли сюда из-за него, значит, отвечать им следует стоя.
— Ну, где тут нарушитель спокойствия! – сказал один из вошедших, хотя одиноко стоящая фигура делала данный вопрос излишним.
— Патрикей, да вон он стоит, бадяжник! – подал голос Емеля, кинув в сторону Пети. – Чего тут думать, дело плевое! Надавать ему горячих, чтоб неповадно было, да отдать мне в рабство, чтобы я на нем верхом ездил!
Столь фамильярное обращение явно покоробило черноволосого. Он дернул углом рта, но сдержался, лишь выразительно посмотрев на Емелю. Тот, наконец-то, поняв, что переборщил, засопел и отвернулся. К тому же Емеля обозвал Корсакова бадяжником, что на корпусном лексиконе значило – обманщик. Таким образом, он еще до начала судебного процесса, выдвинул вполне конкретное обвинение, причем по корпусным меркам, весьма нешуточное.
Гардемарины степенно уселись на лавку.
— Иди сюда, малой! – поманил черноволосый Петю пальцем.
— Кадет средней роты Петр Корсаков! – подойдя, доложился тот по всей форме.
— Ну и чего же ты, кадет Корсаков, порядок нарушаешь, «стариков» поединками пугаешь! Сказывай!
Петя со страхом поднял глаза на черноволосого. Тот сидел, нахмурившись. Но в уголках его глаз Петя увидел веселые огоньки. Заметил и то, как черноволосый кривит рот, чтобы тот не расплылся в улыбке. На душе Пети сразу полегчало, и он бойко и четко доложил суть происшедшего.
— Так было? – обратился к аудитории черноволосый.
— Так! Так! – загалдели кадеты.
— Емеля, теперь говори ты! – поманил рыжего другой из гардемаринов, круглолицый и курносый.
Емеля, демонстративно шаркая ногами, подошел к своим бывшим соученикам. Было видно, что ему претит такое обращение, да еще в присутствии малолетних обитателей каморы. Связанно говорить рыжий вообще никогда толком не мог, сейчас же, он вообще мычал что-то маловразумительное. По версии Емели, кадет Корсаков сам на него бедного с кулаками набросился, а когда понял, что несдобровать, пытался спастись, выкрикнул ваган.
— А ваган то зачем ему было объявлять? – задал вопрос черноволосый. – Ведь все одно драка уже была!
— А черт его знает, — зло стрельнул глазами в сторону Корсакова рыжий. – Бадяжник, он бадяжник и есть!
— Каким ты был, таким и остался! – усмехнулся, молчавший дотоле, третий гардемарин. – С формальной логикой ты, Емеля, никогда не дружил.
— Так ли все было, как говорит Емеля? – вновь обратился к сидевшим на кроватях кадетам черноволосый.
Камора гнетуще молчала. Если бы чернявый обратился к каждому кадету в отдельности, из-за страха перед Емелей им пришлось бы говорить, что тот прав. Но при обращении ко всем сразу, никакого конкретного ответа не требовалось. Поэтому всеобщее молчание красноречиво говорило само за себя.
Возникла продолжительная пауза. Гардемарины переглядывались. Рыжий нервно завертел головой.
— Емелина правда будет! – наконец, неуверенно подал голос из своего угла Барсук, но гардемарины не удостоили его и взглядом.
После этого все трое встали, отошли в дальний угол спальни и шепотом недолго переговорили между собой.
— Объявляем вердикт! – сказал после этого черноволосый.
Кадеты снова повскакивали со своих мест, чтобы выслушать гардемаринский суд с полным почтением.
— А вердикт наш таков! – продолжил черноволосый. – Кадет Корсаков закону корпусного не нарушил, потому как вызвал на ваган не кадета старшей роты, а своей средней. Что же касается того, что Емеля просидел в средней роте уже четыре года, а мнит себя «стариком», то сие не правомочно. Таким образом, вызов на ваган остается в силе.
Итак, приговор суда был объявлен – вагану быть! Кроме того, в сказанном черноволосым таился и скрытый смысл. Председательствующий гардемарин фактически обвинил Емелю в узурпации власти, так как «стариками» по корпусным понятиям могли именоваться исключительно кадеты старшей роты.
Не ожидавший такого оборота, Емеля злобно смотрел на бывших одноклассников. Те, в свою очередь, в ожидании смотрели на рыжего.
— Ваган принял! – наконец, выдохнул Емеля. – Ну, бадяжник, я тебе все кости…
— Это еще не все, — резко прервал угрозы рыжего, тот, кого он назвал Патрикеем, — Так как о сем вагане уже известно всему сообществу, и многие хотят его поглядеть, биться станете вечером в субботу на заднем дворе. Судействовать буду я самолично. А теперь отдыхать, – обратился черноволосый уже ко всем кадетам. – Адмиральский час еще никто не отменял.
Уходя, Патрикей посмотрел на безмолвно стоявшего Корсакова и снова едва заметно улыбнулся.
Весь оставшийся день не только средняя рота, но и весь Корпус только и обсуждали вынесенный вердикт, соглашаясь и не соглашаясь с ним. Теперь, когда ваган стал неизбежен, начались заключаться пари. Ставили на щелобаны, на внеочередные дежурства и, конечно же, на вожделенные булки. При этом почти все ставили, конечно же, на здоровенного Емелю, а не на худого и маленького Корсакова. Да он, честно говоря, и сам бы на себя не поставил. На победу Петя особенно не надеялся, где ему против такого басалая выстоять! Надежда был на другое, постараться, как можно дольше продержаться и, хотя бы тем заслужить уважение тех, кто придет за него переживать. А еще мечтал Петя хотя бы раз хорошо к Емелиной роже кулаком приложиться, чтобы, от всей души, а там уж что будет, то и будет!
Что касается Емели, то, когда, немного придя в себя от происшедшего, принялся он, как и прежде, раздавать подзатыльники кадетам, те неожиданно отказались безмолвно сносить пинки и тычки. Нет, выступить против Емели, как Корсаков, никто не решился, но огрызаться на Емелины выходки уже начали многие. Поутихли и, казалось бы, еще верные вчера, прихлебатели. Последних поколебала вера в Емелю вовсе не выходка новенького, а то с каким презрением отнеслись к нему бывшие соученики-гардемарины.
Вчерашняя безмолвная паства явно выходила из подчинения. Рыжий это сразу почувствовал, но что следует предпринять для подавления бунта пока не знал, а потому нервничал и оставшимися до субботы вечерами, покупал у сторожей водку, напиваясь почти до бесчувствия.
Для Пети же, все оставшиеся до субботы дни пронеслись как один миг. Так в жизни, наверное, всегда и бывает, сколько беду не оттягивай, а она вот уже, голубушка, тут как тут, на пороге.
***
И настала та страшная суббота, и пробил тот роковой час, когда призвали Петю Корсакова на задний двор. Народу там собралось тьма. Чтобы офицеры чего не пронюхали, им было сказано, что будут кадеты играть в городки да в «житки». Погода тому способствовала – день выдался хоть и с морозцем, но солнечный. Честно сказать, мало кто сомневался, что бой продлиться долго, больно уж силы неравные. Шли больше для того, чтобы посмотреть на финал непростой истории с ваганом, законность которого решал гардемаринский суд, что было само по себе делом нечастым. Да и развлечений иных просто в тот день не было.
Предводительствовал во дворе, как и обещал, черноволосый. Его, как успел выяснить Петя, звали Степаном Патрикеевым. Степан был в большом авторитете не только у младших, но и среди своих, и за то, что учился лучше многих и за кулаки чугунные, а также за веселый нрав и справедливость суждений.
Когда Корсаков пришел на двор, Емеля с подручными был уже там. Все четверо о чем-то весело гоготали. При этом Емеля пребывал в изрядном подпитии, что было видно разу. Стараясь не обращать ни на кого внимания, Петя, как когда-то учил его дед Алексей Прокопыч, занялся перед кулачным боем приседаниями, потом несколько раз отжался на руках, размял шею, руки, напоследок попрыгал на месте. Ну, вроде готов.
Емеля посматривал на его действия с насмешкой. Не удержавшись, выкрикнул:
— Сколько мельницей не машешь, все одно рожей в снег ляжешь!
Вокруг царило оживление. Те, кто еще не успел заключить пари раньше, теперь в спешке разбивали в споре в руки, другие громко оценивали силу бойцов, сыпали прибаутками. Хорошая драка для кадетов, как хороший театр для столичной публики.
— Ну, что Корсаков, готов биться до крови? – подошел к Пете гардемарин Патрикеев.
— Готов, Степан Васильевич, — ответил тот скромно, но с достоинством.
Патрикеев с уважением посмотрел на мальчишку.
— А как желаешь биться, в схватку или по вольному?
— По вольному! – без раздумий ответил Петя, ибо, куда там на одних руках с рыжим тягаться!
— А ты, Емеля? – спросил второго.
— А мне один леший, как бадяжке малолетнему юшку пускать! – небрежно бросил тот.
— Ну и ладно! – хлопнул в ладоши Патрикеев. – Всем разойтись пошире, чтобы драку видно было, а вы оба в круг!
Уже проходя мимо Пети, Патрикеев вполголоса сказал:
— Желаю удачи!
И подмигнул.
От этих слов у Пети на душе полегчало. Он как-то сразу успокоился и собрался. Будет, что будет, но за просто так он Емеле не дастся, а держаться станет, сколько сил и духу хватит.
— Начали! – крикнул Патрикеев и вышел прочь из круга.
В то же мгновение Емеля кинулся в атаку. Даже кулаков перед собой не выставлял, хотел просто сгрести Корсакова в охапку, бросить на землю и там уже добить. Однако атака не удалась, Петя резво отскочил в сторону, и Емеля промахнулся, обдав соперника сильным перегаром.
Развернувшись, Емеля снова бросился в бой, но Петя снова отскочил. Так повторялось несколько раз. Зрители начали топать и свистеть:
— Чего бегаете без толку! Давай, кулаки в дело пускайте! Хорош играться в кошки-мышки!
На свист и крики Петя внимания не обращал. Он внимательно следил за каждым движением противника. Цена ошибки была слишком велика. И он пока не ошибался. Емеля же, промахиваясь снова и снова, все больше ярился. Из его рта валил пар, с лица градом катился пот. Еще одна атака и снова неудача…
Впрочем, один удар он все же пропустил. Уклоняясь. все же попал под кулак. И хотя удар прошелся по касательной, был он так силен, что Корсаков отлетел в сторону. Перед глазами поплыли круги, а ноги сразу стали ватными. Разом пропала и воля дальше сопротивляться огромному Емеле. Откуда-то изнутри сама собой возникла мысль: «Что ж, а сделал все что мог. Пусть будет, что будет».
И тут буквально над самым ухом раздался крик:
— Держись, гардемарин!
Петя скосил глаз. Это кричал ему подбежавший Патрикеев:
— Держись, гардемарин! Бой еще не кончен! Верю, что победишь! Вставай!
Но почему Патрикеев назвал его гардемарином, хотя он еще просто кадет? Значит он в него верит и хочет его победы? Значит в глазах гардемарин старшей роты он выглядит равным. Значит на самом деле бой еще не окончен!
— Держись, гардемарин! Вставай! – кричали Корсакову уже другие гардемарины и кадеты.
Разве он теперь может остаться валяться на грязном снегу под насмешками всего Корпуса и издевательствами победителя Емели? Нет, он будет драться!
Откуда-то только силы взялись. Собрав всю волю в кулак, Петя вскочил на ноги и вовремя, так как уверовавший в свою победу Емеля так же дал себе несколько мгновений перевести дух и уже спешил добить поверженного противника, вырвав слово о пощаде и прекращении боя.
Шатаясь, Петя, в самый последний момент все же отскочил в сторону, от бежавшего на него Емели. Отчаянно болела задетая кулаком скула, перед глазами, по-прежнему, все кружилось, но сейчас было не до этого. Корсаков чувствовал себя настоящим гардемарином, а настоящие гардемарины не сдаются никогда! Теперь он знал, что будет драться пока дышит и ни за что не подведет тех, кто заочно произвел его в высший чин кадетской иерархии.
Бой продолжился. Атаки разъяренного Емели
Следовали одна за другой и следовало быть предельно внимательным. Некоторое время Корсаков лишь уклонялся от атак исходящего потом Емели, одновременно приходя в себя.
Наконец он почувствовал, что немного восстановился, а соперник же, наоборот, начал понемногу выдыхаться — движения Емели стали более медленными. Несколько раз Рыжий даже пошатнулся. Явно сказывалась выпитая накануне четвертина водки.
Когда же Емеля, обдав Петю потом и перегаром, в очередной раз тяжело промахнулся, тот понял, что пришла пора и ему переходить в наступление.
Выждав удобный момент, он применил старый дедовский прием. Кошкой кинулся в ноги Рыжему и в подкате носком ноги подбил ему коленный сгиб. У не ожидавшего этого Емели, разом подкосились ноги, и он ничком грузно упал в снег. Толпа взревела от восторга.
— Москва бьет с носка! – выкрикнул какой-то знаток русских драк.
— Добивай! Добивай! – неслось отовсюду.
Согласно правилам, Петя мог бы сейчас подскочить к распластавшемуся Емеле и нанести удар кулаком в лицо, когда тот станет подниматься. Но то кадетские правила, а дед учил лежачего не трогать, и Петя не считал себя вправе нарушать дедовский завет. Отойдя в сторону, он просто ждал, пока Емеля поднимется.
Вокруг стоял хохот и гвалт. Теперь все собравшиеся откровенно выбрали себе фаворитом Корсакова и азартно болели за него. В стоявшей толпе Петя разглядел лицо гардемарина Патрикеева. Тот улыбался.
— Эй, Давид, лупи Голиафа! – кричал кто-то из знатоков древней истории.
Емеля, поднявшись и утирая снег с лица, по-бычьи мотал головой, приходя в себя. Потом нашел глазами Корсакова и, выставив кулаки, снова кинулся вперед. Результат этой атаки был таким же, как и предыдущей. Петя снова в подкате подбил Рыжему коленный сгиб и тот второй раз рухнул лицом в снег. На этот раз Емеля поднимался уже медленнее.
Чуть-чуть отдышавшись, он с ревом опять кинулся вперед и уже в третий раз оказался лицом в снегу.
…Толпа неистовствовала. Петя краем уха услышал, что, для собравшихся на заднем дворе, он стал уже не безымянным новичком, а «братцем Петькой». Кадеты так и кричали:
— Давай, братец Петька, наваляй этому остолопу по первое число! Ату его!
На этот раз, тяжело дышащий Емеля, уже не кинулся вперед, как раньше, а выставив кулаки, медленно двинулся к Корсакову, стремясь зажать его в угол. Но Петя уклоняться от кулачного боя уже и не собирался. По его расчетам противник был измотан так, что пора было ставить точку в поединке.
От полета емелевского кулака он уклонился, встав в боковую стойку, а затем, одновременным выбросом обоих своих кулаков вперед, нанес два сокрушительных одновременных удара в голову и в торс. Голиаф рухнул в снег, посучил ногами и затих.
— Считать до дюжины! Считать до дюжины! – раздалось со всех сторон.
Вперед вышел гардемарин Патрикеев и начал неторопливый отсчет:
— Один, два, три….. девять, десять, одиннадцать, двенадцать! Победителем сего вагана объявляется кадет Корсаков!
Емеля, наконец-то, медленно привстал на локтях, затем кое-как, шатаясь из стороны в сторону, поднялся.
Зрители, притоптывая от мороза на месте, весело хлопали в ладоши. Бой получился на славу, и все радовались хорошему развлечению. При этом радовались, как выигравшие пари, так и проигравшие. Что значит какой-то десяток щелбанов или даже булка, когда представилась редкая возможность всласть покричать и посвистеть! Особенно веселились кадеты младшей и средней роты, ибо на их глазах только что восторжествовала справедливость — младший побил старшего. В непростой кадетской жизни такое случалось нечасто.
Патрикеев подошел к переводившему дух Корсакову, и, как равному, пожал руку:
— Поздравляю, молодцом!
Петя хотел было что-то сказать ему в ответ, как внезапно страшная боль пронзила затылок. Последнее что он увидел, было серое питерское небо и искаженное злобой лицо Патрикеева, который что-то кому-то кричал…
***
…В себя Петя пришел лишь через день в корпусном лазарете. Вначале ничего не понимал, страшно болела голова, а перед глазами плавали круги фиолетовые. Попытался приподняться, не получилось. Пощупал голову — забинтована.
В палату вошел сутулый корпусной доктор Йоган Виртц (по прозвищу «верблюд гамбургский»), пощупал пульс, заглянул в глаза:
— Отшен карашо, отшень карашо!
— Что со мной? – прошептал заплетающимся языком Петя. – Где я?
— Ты глупый падал с лестница голова! – просветил его Виртц, размешивая в кружке какую-то микстуру. — Тебе везло, чуть сильно и капут! Так быстро бегат лестница болше нельзя!
Виртц сунул под нос кружку с микстурой. Петя с трудом ее выпил.
Из-за двери раздались мальчишеские голоса:
— Пустите нас, мы хотим его проведать!
Виртц приоткрыл дверь и страшным голосом закричал:
— Цурюк! Малчик болен! Малчик должен спат! Прочь, глупый дети!
Через несколько дней, когда Пете стало немного лучше, к нему пустили гардемарина Патрикеева. Тот пришел не просто так, а с кульком пряников.
— Что со мной? – снова спросил Петя, который все никак не мог понять, что же с ним случилось, и как он очутился в лазарете.
— Дело вышло поганое! – хмуро ответил Патрикеев. – Пока я тебя поздравлял с победой, сзади подкрался Емеля и ударил в затылок…
Он помолчал, затем вздохнув, продолжил:
— И все бы ничего, но у него в руке была свинчатка. Ею он тебе голову и прошиб.
Он снова замолчал и снова вздохнул:
— Прости, это моя вина. Как судья, я должен был проверить перед боем руки и карманы, но забыл. Даже мысли не имел, что Емеля может сотворить этакую гнусность. «Верблюд» сказал, что все обошлось и вскоре пойдешь на поправку. Все роты кадетские и мы гардемарины передаем тебе привет, ибо дрался ты не только отважно и искусно, но и благородно.
Патрикеев пожал Пете руку и покинул лазарет. Весь остаток дня Петя думал о человеческой душе, о чести и подлости. Откуда только такие, как Емеля появляются, ведь была же у него маменька, которая, наверняка, учила его добру, да и сам он когда-то был маленьким и беззащитным…
Выписали Петю из лазарета лишь через месяц. Голова к этому времени уже зажила, хотя иногда еще кружилась. Встречали его в роте, как героя, все жали руки, желали полного выздоровления и вспоминали особо яркие моменты боя. Говорили, что в младшей роте местный пиит воспел поединок на заднем дворе в оде, именовавшейся весьма торжественно: «Ода о том, как благородный Давид храбро бился и победил бесчестного Голиафа, а оный ударил сего героя припрятанной свинчаткою в темечко». Попросить почитать оду, Корсаков почему-то сразу постеснялся, о чем потом, конечно же, жалел.
Емелю Петя уже не застал. По рассказам, после своего подлого нападения, он был сильно побит старшими кадетами, а затем, по требованию всего Корпуса, с позором изгнан из его стен.
***
После лазарета в жизни Корсакова все как-то пошло сразу на лад. И в роте, и в каморе воцарился мир и спокойствие. Никто никого более не утеснял. Без Емели затихли и его прихлебатели. Барсук даже пытался подластиться, мол, я хоть годами и постарше, но готов у тебя в услужении состоять, как раньше у Емели. Однако Петя раболепства не принял, а самого Барсука послал куда подальше. Затравленные и запуганные кадеты средней роты воспряли духом и среди них Петя нашел много хороших товарищей. Опекал же его теперь самолично гардемарин Патрикеев, говорил, что в обиду Петю никому не даст. Да никто более Петю и не обижал.
Что касается учебы, то, выйдя из лазарета, Корсаков быстро нагнал товарищей. Науки давались Пете довольно легко, и он с удовольствием впитывал новые знания, понимая, что все это пригодится в будущем.
А корпусная жизнь продолжалась. Случались и веселые дни. Однажды кадеты пожаловались ротному капитану, что за ужином каша была подана с салом, а не с маслом. Тот приказал позвать главного кухмистра Михайлыча и самолично вымазал ему лицо кашей, после чего велел тут же перед кадетами бить палками. Жалости к Михалычу ни у кого не было, так как все знали, что он ворует преисправно, таскает кадетский сахар, изюм и чернослив, да приписывает лишние булки, за счет коих хлебник печет ему особые хлеба, рассылаемые потом по нужным людям.
А однажды вечером в умывальне кадеты старшей роты принесли ошеломительную весть. Между двумя гардемаринскими ротами «трехкомпанейцев» и «двухкомпранейцев» возник нешуточный конфликт и следующей ночью на заднем дворе обе роты будут в полном составе драться друг с дружкой.
«Трехкомпанейцами», т.е. старшими гардемаринами, звали тех, кто прошел на кораблях по три полных летних компании, а «двухкомпанейцами», соответственно младших гардемаринов, у которых за плечами было всего по две летних практики.
— Это нам здорово повезло, — шептал вечером Пете, спавший на соседней кровати всезнающий Базиль, – такие драки, говорят, бывают раз в десять лет.
Весь последующий день только и разговоров было, что о предстоящей баталии. Пете невольно вглядывался в глаза встречных гардемаринов. Те были на редкость молчаливы и сосредоточенны – видать, настраивались на битву.
Едва же прозвучал отбой, и дежурный офицер заперся в своей комнате почивать, а Корпус ожил. Стараясь не шуметь, гардемарины и кадеты рота за ротой, двинулись на задний двор, где одним предстояло пролить свою кровь, а другим насладиться этим бесподобным зрелищем.
О! То была не просто драка, то было великое побоище! Больше сотни здоровенных молодцов истово лупили друг друга кулаками, сходясь стенка на стенку. За баталией с азартом наблюдали кадеты остальных трех рот. Они кричали, подбадривая тех, кому симпатизировали, свистели и топали ногами. Особо азартные, как обычно заключали меж собой пари. Петя в общем порыве тоже свистел и кричал, что было мочи, но следил только за своим кумиром — гардемарином Патрикеевым. Тот, на радость ему, лихо расправлялся со своими противниками, не забывая помогать и более слабым товарищам. Успевал и сам ударить и товарищей заслонить. Каждый его удар Петя воспринимал, как их общую победу, а каждый пропущенный, как общую неудачу. Впрочем, Патрикеев больше побеждал, чем получал в ответ, и от этого сердце Пети Корсакова наполнялось гордостью за то, что такой герой, подарил ему дружбу и покровительство.
Но до чьей-то решительной победы, увы, в сражении дело так и не дошло. Набежали служители с офицером во главе, разогнав участников и зрителей.
Утром прибыло начальство и начало считать потери. Нескольким гардемаринам разбили головы, кому-то переломали ребра, но убитых и увечных, к великой радости директора Корпуса, не было. Зачинщиков, как обычно, выявить не удалось. А изгонять с флота в полном составе две гардемаринские роты, никто бы не позволил. Этим, собственно, дело о баталии на заднем дворе и завершилось.
Впрочем, в умывальнях еще несколько месяцев после спорили до хрипоты, кто же взял верх «трехкомпанейцы» или «двухкомпанейцы». К единому мнению прийти было действительно трудно, так как в лазарете «трехкомпанейцев» оказалось больше, но по числу перебитых носов и фингалов под глазами «трехкомпанейцы» первенствовали со значительным отрывом. Все кончилось тем, что сами враждующие стороны публично объявили о боевой ничьей и возобновлении дружбы между ротами.
Однажды приключилось странное происшествие и с Корсаковым. В свое время маменька приучила его к чтению сентиментальных книг о благородных принцах и прекрасных девах. Вот и теперь, когда попадалась подобная книжка, и выпадало время. Петя не отказывал себе в удовольствии почитать о чужой красивой жизни. Все случилось, когда он в один из вечеров читал особо чувствительный роман, и не смог удержаться от слез. Когда же дошел до того места, где прекрасная героиня бросилась от несчастной любви в омут головой, и вовсе разрыдался. Для кадет такое поведение было столь непонятно и удивительно, что Петю тут же хотели объявить сумасшедшим. Выручило то, что он не только рассказал сокурсникам о прочитанных страстях, но и зачитал особо жалобные места, после чего и другие кадеты дружно прослезились…
По итогам 1767 года Корсакова аттестовали в старшую роту, чему он был, конечно, очень рад. В начале лета кадет младшей и средней роты вывели на короткое время на так называемый «лагерный двор», принадлежавший корпусу большой луг, находившийся на углу Большого проспекта Васильевского острова и 12-й линии, где учили делу армейскому, а потом распустили к родителям и родственникам. Старших же кадетов гардемаринов отправили в учебное плавание на корпусных судах «Малый» и «Урания», а гардемаринов на боевые корабли. Что касается Корсакова, то его за малолетством в море не взяли, а оставили на берегу.
Так как отец еще не вернулся из Архангельска, а иных благодетелей в столице у Пети не было, после роспуска роты на каникулы, его приставили к учителю корпуса Лебедеву, имевшему казенную квартиру вне корпуса. Лебедев был человек одинокий и скучный, но науку математическую любил превыше всего. А посему, пока другие отдыхали от дел ученических, Петя зубрил последнюю 3-ю часть арифметики и геометрию, которые предстояло учить будущей зимой, да заучивал наизусть эвклидовы «Начала».
***
В сентябре снова начались занятия. Вскоре в Корпус заехал офицер от отца из Архангельска, привез узелок сладких конфект, чайный фарфоровый прибор и мягкую перину. Конфектами Корсаков поделился с товарищами. Разложил на столе и сказал:
— Давай, братцы, налетай!
Через полчаса братцами весь узелок был уничтожен. Фарфоровый прибор Петя подарил в благодарность учителю Лебедеву. А перину вскоре выманил у него отставной матрос-баталер. Говорил, что на время, мол, только погреть старые кости, но оказалось, что насовсем. И скоро Петя снова спал на казенном тюфяке, о чем, впрочем, нисколько не жалел.
А потом вернулся из учебного плавания Степан Патрикеев. Был он в щегольски измаранной смолою рабочей рубахе, подпоясанной портупейкой, и в шляпе на ремешке. Рассказывал, что в плавании между Кронштадтом и Ревелем «трехкомпанейцы» исполняли уже офицерские обязанности:
— Представляешь, «однокампанцы» в начале плавания боялись лазать на мачты! А некоторых из них приходилось даже поднимать туда на концах! – здесь Патрикеев замолчал, давая возможность Пете прочувствовать весь драматизм момента, затем продолжил. — Почему-то, все новички особенно боятся путенс-вантов! Ну, что ты на это скажешь?
В ответ Петя только округлял глаза. На самом деле, что тут сказать?
— Ну, а как кормили-то? — наконец задал он животрепещущий для любого кадета вопрос.
— Ну, кормили сносно, — подумав, поведал ему Патрикеев. — Иногда даже с офицерами столоваться разрешалось. А на походе ежедневно, помимо всего прочего, давали чай в оловянной миске с накрошенными сухарями, который мы черпали ложками, как суп.
Петя слушал своего кумира с обожанием. Эх, если бы он был летом не в сырой лебедевской каморке с ненавистным Эвклидом на коленях, а там, рядом с Патрикеевым на мчащемся по морю фрегате! Он бы ни за что не испугался лезть на мачту, не оробел бы, как иные, и на путенс-вантах. А как бы ему хотелось сидеть рядом с Патрикеевым на просмоленной палубе и дружно хлебать ложкой чайную тюрю из одной миски…
Где-то перед рождественскими праздниками был Петя Корсаков посвящен в негласный «орден теористов», к которому сами преподаватели причисляли наиболее способных к астрономии и теоретической механики кадетов, в отличие от менее способных «астрономистов», способных освоить лишь практическую навигацию. Впрочем, «теористы» в кадетской среде никаких льгот не имели, а получали в драках тумаки, как и все прочие.
А следующей весной весь старший кадетский класс был направлен на практику в Кронштадт.
***
Пока парусный катер выбирался из Невы, пока, преодолевая встречный ветер лавировал до Котлина, прошел день. До учебного фрегата добрались уже за полночь. Похлебали горячего чая с сухарем и попадали замертво спать на батарейной палубе, даже не развесив парусиновых коек.
…Проснулся Корсаков страшного грохота барабанов и свиста боцманских дудок. Вместе с другими кадетами выскочил на палубу и замер.
Бастионы фортов еще едва проступали в белесых туманах, а над гаванью и рейдом уже был виден густой лес мачт, будто все флоты мира разом приплыли в пределы невские. Кронштадт — морской оплот империи, он первый и последний рубеж перед ее столицей, а потому службу здесь правят с особым тщанием и усердием. Это Петербург может спать сколько душе угодно, Кронштадт же назначен бдеть его державный сон.
— А ну, чего стали, господа-барчуки! – привел кадет в чувство боцманский окрик. – Давай на завтрак, а потом на приборку!
Ошалевшие кадеты наскоро похлебали полужидкой овсяной каши и отправились скоблить тиковые палубные доски.
К восходу солнца фрегат уже сверкал отскобленными до молочной белизны палубами, в золото чищеной медью. Без десяти минут восемь хрипло пропели корабельные горны, и матросы выстроились вдоль бортов, выровняв босые ноги. К концу строя пристроились и кадеты. Корабельные урядники в последний раз окинули придирчивым взглядом стоящих: все ли ладно? Без пяти минут вышли и дружно встали на шканцах офицеры в шляпах и при кортиках. За минуту поднялись из своих салонов командиры с тростями в руках и в сиянии орденов. Над морем повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь плеском волны да криками чаек. В то же мгновение над флагманским 74-пушечным «Тремя Иерархами» взлетел и рассыпался в воздухе трехцветный флаг – «Исполнительный».
— На флаг шапки долой! — отозвались вахтенные лейтенанты.
Командиры, офицеры и команды обнажили головы. «Исполнительный», вздрогнув, стремительно полетел вниз по фалам.
— Время вышло! — отсалютовали еще не явившемуся солнцу вахтенные лейтенанты, воздев ввысь лезвия своих шпаг.
— Флаг поднять!
Разом развернулись на свежем ветре полотнища кормовых флагов и медленно поползли вверх по лакированным штокам. Засвистели трелями канарей-блоки, на каждом корабле на свой лад и свой манер. И в тот же миг из-за окоема показался край солнца. А многометровые Андреевские флаги, развернувшись во всю свою ширь, уже приветствовали восходящее светило. Русский флот встречал свой очередной день…
Так началась для будущего гардемарина Петра Корсакова настоящая морская служба. Впереди у него будут и дальние плавания, и жестокие баталии, он будет совершать подвиги и терять друзей, переживать взлеты и опалу. Все еще будет в его долгой жизни. А пока он в едином строю с друзьями восторженно смотрит на реющий над головой Андреевский флаг, и вдыхает полной грудью воздух, насквозь пропитанный морской солью и неизвестностью далеких странствий…
2015-2020 гг.
Севастополь-Домодедово