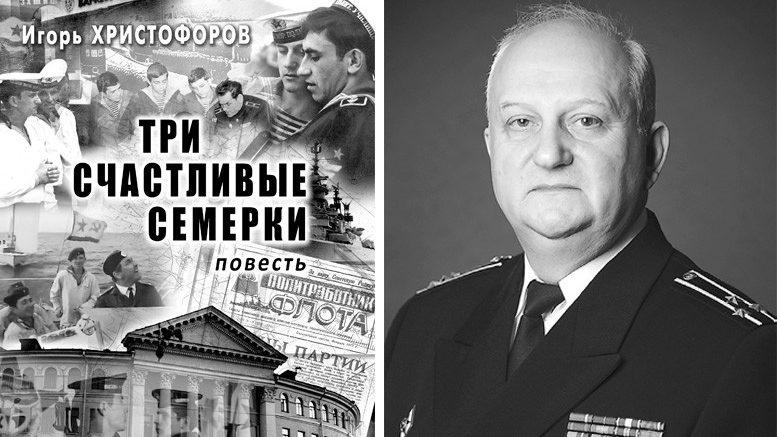Вряд ли на земле найдется хоть один курсант, который не бегал в самоволки, то есть покидал территорию воинской части без разрешения командования. Студент, живущий вольной жизнью, вряд ли поймет наслаждение в самом факте самовольной отлучки. Только если вдруг выдохнет и надолго, до дурмана в голове, задержит дыхание, а потом резко вдохнет. Вот это и будет что-то похожее на самоволку.
Я десятки раз сбегал под прикрытием товарищей из строя, чтобы позвонить невесте. Сбегал, когда выпадала очередь на покупку колбасы для взвода. Сбегал, когда хотелось просто ощутить себя свободным.
Последняя самоволка случилась весной выпускного курса. Я проходил последнюю курсантскую морскую практику в Севастополе, на Северной стороне в бригаде противолодочных кораблей. Четверокурсников разбросали по кораблям, где они исполняли почти офицерские обязанности, хотя и жили в кубриках мичманов. Меня сгубила способность быстро печатать на машинке, приобретенная в училище. Вместо корабля я попал на берег, в политотдел бригады, где помогал двум матросам, не поднимающим голову над трофейными немецкими ундервудами, печатать бесконечные приказы, донесения, инструкции и планы.
Корабли бригады стояли на так называемом двенадцатом причале прямо под окнами одноэтажного, с выбеленными стенами здания штаба и политотдела. Флагманом числился ракетный крейсер «Грозный». Он стоял ближе всего к окнам контр-адмирала, командира бригады, олицетворяя собой мощь и новизну и вообще радуя его адмиральский глаз. Все остальные борта были старше крейсера, а некоторые даже старше меня, что означало очень преклонный возраст для любого боевого корабля первой линии.
Севастополь в мае богат на солнце. Чтобы этого богатства немного досталось и мне, сидящему в комнате на северной стороне политотдела, я иногда выходил на улицу и прогуливался вдоль строя кораблей по причалу. В одно из таких прохождений меня окликнул с палубы сторожевика курсант из соседней роты:
‒ Игорь, привет! Ты слышал, что выпуск перенесли?
‒ Как это? ‒ невольно пошел я к сходне его корабля, поднялся на ют, отдав честь одновременно флагу и вахтенному старшине у трапа. ‒ Что значит перенесли?
Мы пожали руки. Я знал его только издалека. Мы жили на одном этаже, и между спальными помещениями наших рот даже не было переборки, но все равно существовала какая-то невидимая граница, которую курсанты старались не пересекать.
‒ Должны были проводить тридцатого июня, ‒ уверенно сказал он. ‒ Правильно?
‒ Ну да.
‒ А перенесли на второе июля.
Наверное, мое лицо стало каким-то слишком необычным, потому что он не сдержал вопрос:
‒ Ты чего?!
‒ Да так. Ничего. Это точно?
‒ Без вариантов. У меня младший брат на первом курсе. Им уже перед строем ротный объявил. Там у адмиралов какие-то сборы, и они не смогут тридцатого вручить нам погоны. Вот оттуда и второе июля…
‒ Вас записать? ‒ влез в разговор вахтенный старшина и взялся за карандаш, привязанный к нитке.
‒ Нет. Я на борт не пойду, ‒ ответил я.
Ноги сами понесли меня по сходне. За полчаса я обежал все пришвартованные корабли и подивился тому, что наши четверокурсники уже знали про второе июля.
В комнате писарей политотдела автоматными очередями строчили машинки. На стене на отрывном календаре под сегодняшним числом было написано неприятное слово «вторник». Увольнение в город я мог получить не раньше воскресенья, а мне кровь из носу нужно было позвонить в Донецк невесте. В местном Дворце счастья мы были записаны на регистрацию брака именно на второе июля.
‒ Мужики, прикроете меня? ‒ заставил я матросов отвернуться от машинок ко мне. ‒ Я в город рвану. Мне позвонить надо по междугородке.
‒ Самоход? ‒ со знанием дела спросил старший из них с двумя старшинскими лычками на погончике.
‒ Да.
‒ Поможете нам потом с отчетом? ‒ сразу выставил он счет.
‒ А что там?
‒ «Теща» пришла со Средиземки, ‒ флотской кличкой обозвал он большой противолодочный корабль «Сообразительный». ‒ Как попало отпечатано, а кусок замполит даже от руки написал.
‒ Хорошо, ‒ согласился я, и оба труженика клавиш отвернулись от меня. ‒ Если что, скажите, что я по кораблям пошел.
В черный портфель из кожзаменителя, который верой и правдой служил мне еще с поступления в училище, я сложил спортивный костюм и кроссовки. Там уже лежал мой главный трофей первых дней практики в Севастополе ‒ купленная в киоске у мастера на Минной стенке огромная, с белым чехлом фуражка будущего лейтенанта с самодельной, из золотых нитей, кокардой, которую на флоте почему-то звали «крабом».
За трансформаторной будкой в заборе была одна надежная доска, казавшаяся намертво прибитой. От причала круто вверх уходил холм, хорошо просматривавшийся с кораблей, но в одном месте на нем росли туи и, если проскочить метров пять по открытому пространству, то потом можно не бояться быть обнаруженным.
В несколько прыжков я оказался за туями, пробежал вприсядку, как будто станцевал матросский танец «яблочко», к самым высоким деревьям и за ними переоделся. На место спортивного костюма и кроссовок в портфель легли синяя курсантская роба, ботинки, казенная фуражка с металлической кокардой и ремень с бляхой. Портфель я опустил в середину самого раскидистого куста можжевельника и прикрыл сверху его же ветками.
Десять минут хорошего бега в спортивном костюме ‒ и я среди пятиэтажек Северной стороны. Вдали хорошо просматривался серый бетонный причал катеров, курсирующих между Северной стороной и Графской пристанью. Слева от него ожидаемо стоял патруль, пожиравший глазами всех выходящих с катера. Каждому такому патрулю при инструктаже в комендатуре нарезался план по нарушителям, и мне не хотелось попадать на одну из строчек этого плана.
На первом этаже одной из пятиэтажек размещался небольшой пункт междугородной связи. Никто не обратил внимания на раскрасневшегося спортсмена с нехарактерной для матросов шевелюрой. Больше всего я волновался оттого, что невеста могла не оказаться в это время на работе. Я сделал заказ и пытался угадать, какая из трех кабинок выпадет. Почему-то хотелось во вторую, которая размещалась в укромном углу.
Время тянулось нестерпимо медленно. За серым от пыли стеклом окна неожиданно проплыли черные фигуры патруля. Они медленно прошли вдоль пункта, вернулись, капитан-лейтенант с красной повязкой на левом рукаве приложил ладонь козырьком ко лбу и посмотрел сквозь стекло прямо на меня.
В этот момент телефонистка объявила: «Донецк ‒ вторая кабина». Я шагнул за спасительную дверь и услышал любимый голос. Сквозь два стекла ‒ в окне и двери ‒ я неотрывно смотрел на черное пятно капитан-лейтенанта и одновременно рассказывал о переносе даты выпуска из училища.
‒ И что теперь делать? ‒ спросила погрустневшим голосом невеста после моего рассказа.
‒ Попробуй перенести роспись на другой день.
Зная километровую очередь из тех, кто хотел зарегистрировать брак в самом красивом городском загсе с не менее красивым названием «Дворец бракосочетаний», я совсем не был уверен, что можно что-то исправить.
Я открыл дверь не тогда, когда положил трубку, а когда исчезло черное пятно. Выйдя из пункта связи, я посмотрел вниз, на причал, и с облегчением убедился, что патруль вернулся на штатное место. Как раз к приходу очередного катера.
Назад я шел уже не спеша. Жара никак не спадала, и я посочувствовал капитан-лейтенанту в черной тужурке, которому выпал наряд в патруль в такую жару.
Полчаса я обшаривал кусты можжевельника за туями, где спрятал портфель, но он будто испарился. Горше всего было не от того, что исчезла шитая фуражка с шикарным «крабом», которую я купил не только на выпуск, но и на свадьбу. Горше всего было прощание с моим черным портфелем, который верой и правдой служил мне четыре года и повидал такое, что не снилось и сотне других портфелей.
Уже в сумерках я постучал в окошко писарей. Они открыли одну створку, выслушали мой горький рассказ, и старшина принял решение:
‒ Короче, шмотки у знакомого баталера на «Грозном» я достану. Ремень с бляхой у меня есть. А курсантских погончиков с якорями не будет ни у кого. Это точно. Ботинки сорок первые? ‒ на глаз определил он. ‒ Сорок первые. Остальное понятно.
Утром следующего дня я старался не попадаться на глаза штабным, а тем более политотдельским офицерам. Отчет «Сообразительного» оказался действительно муторным, и без меня матросы вряд ли успели бы к сроку отпечатать бумаги, которые требовал флот. Вечером я провел рейд по кораблям и добыл-таки у стажеров инженерного училища два погончика с якорьками. Матросские прогары, которые я не носил с первого курса и которые принес с крейсера старшина, оказались сорокового размера и нестерпимо жали, а брюки приходилось подворачивать и крепить изнутри скрепками. Если с брюками еще можно было мириться, то прогары я сменил на обычные курсантские ботинки сразу после того, как смог купить свой размер в военторговском киоске на причале. Горечь от потери портфеля ушла как-то быстро, а горечь от потерянной фуражки исчезла только через месяц, когда я при отъезде купил у того же мастера еще одну фуражку с огромным белым чехлом. А вот «крабы» у него закончились, и на выпуске я оказался одним из немногих с металлической кокардой на фуражке.
Моя невеста договорилась об обмене с одноклассницей, у которой стояло в плане Дворца счастья бракосочетание на восьмое июля. По вине московских адмиралов мы перенесли свадьбу на православный праздник святых Петра и Февронии, о котором в то антирелигиозное время даже не догадывались. В современной России восьмое июля вообще стало праздником светским ‒ днем семьи, любви и верности. Так и идем мы по жизни рядом с того дня более сорока лет.