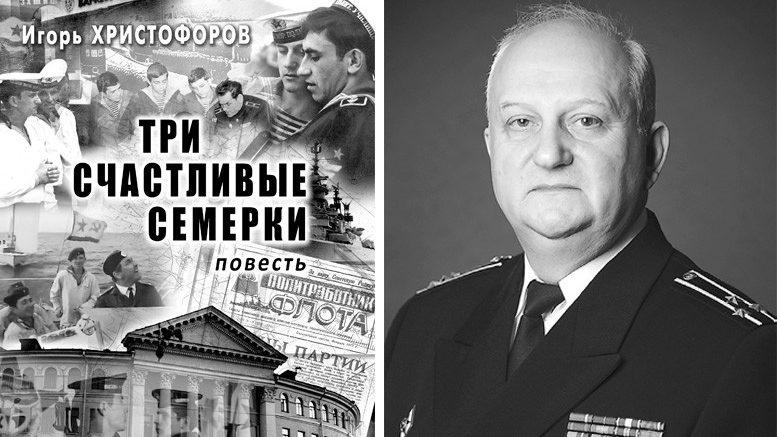Самым важным, самым главным, самым скрепляющим все и вся в училище четыре года были построения. С построения на физзарядку начинался день и с построения на перекличку перед отбоем заканчивался. Строем мы перемещались на занятия и с занятий, на развод суточного наряда и на культпоход в город, на марш-бросок с автоматами за спиной и на чистку картошки, на вечернюю прогулку и на парад. В строю мы проживали по месяцу каждый год, и никто этого даже не замечал.
Раз в неделю нас водили в три часа ночи ротным строем на помывку в баню. За черными окнами домов, мимо которых мы шли, властвовал сон, и каждый раз в одном и том же месте на одной и той же улице идущий впереди меня усатый, с заметными залысинами на голове курсант Слава звериным голосом кричал: «Проснитесь, сволочи гражданские! Хватит спать!» Эхо несло его гортанный крик по пустынной улице и оставляло за собой загорающиеся окна. Слава, поступивший в училище после года срочной службы, люто ненавидел гражданских лиц, потому что считал, что все они увильнули от службы в отличие от него.
Строем мы ходили на ежегодный кросс по вантовому мосту на Труханов остров, и каждый раз испуганный командир роты Лыков кричал насколько хватало глотки: «Не идите в ногу! Мост раскачивается! Он может рухнуть!»
В парадном строю в городе на 7 ноября перед самым прохождением командир роты отпустил одного курсанта с высокой температурой, а командир взвода не прислал замену из резервной шеренги, которую тоже отпустил. Черная коробка нашего училищного батальона чеканила строевой шаг мимо трибуны по Крещатику с дыркой в предпоследней шеренге, и генералы, стоящие рядом с высоким партийным руководством, радостно улыбались, что такой дырки не было ни у общевойсковиков, ни у танкистов, ни вообще больше ни у кого.
Вечером, перед отбоем, мы в обязательном порядке ходили строем вокруг училища. В распорядке дня, висевшем над тумбочкой дневального, это называлось вечерней прогулкой. Пока рота обходила по кругу спальную территорию, она успевала исполнить одну песню. «Нам нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить!» ‒ орала почти сотня глоток, и редкие прохожие в ужасе шарахались от нас по робко освещенным улицам. А мы в спину им еще громче затягивали припев:
‒ И тогда вода нам как земля,
И тогда нам экипаж ‒ семья,
И тогда любой из нас не против
Хоть всю жизнь служить в военном флоте.
На втором витке вокруг училища мы пели песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», и лучше всего нам удавались слова «Как-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье».
По какому-то неписаному закону только четвертый курс не ходил строем перед сном. Каково же было наше удивление, когда вечером в колонне перед нами, второкурсниками, однажды оказались почти лейтенанты. Голосовой телеграф мгновенно передал от взвода к взводу, что у четверокурсников кто-то попал в комендатуру и комбат придумал именно такое воспитательное наказание. Тем интереснее оказался ответ. Мрачные тридцатилетние мужики пошли по Подолу с пионерской песней «Взвейтесь кострами, синие ночи». В совершеннейшем миноре, речитативом, который позже назовут рэпом, четко отделяя одно слово от другого, они стонали, обходя бетонный забор вокруг училища:
‒ Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы ‒ пионеры,
Дети рабочих!
Близится эра
Светлых годов.
Клич пионеров:
«Всегда будь готов!»
Раздраженный командир взвода, только недавно пришедший на эту должность с флота молоденький старший лейтенант, бегал вдоль строя и кричал тоненьким голоском: «Прекратите! Прекратите эту песню!» ‒ но его никто не слушал. Когда колонна четверокурсников уже громче и злее взревела партийным гимном «Интернационал», комвзвода замолчал и только озирался. А в черное весеннее небо сквозь морось летели неприкасаемые куплеты:
‒ Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим ‒
Кто был ничем, тот станет всем.
Наша рота двигалась следом за ними. Ни у кого не было желания накладывать на текст старшекурсников свои песни о кораблях и море, а тем более о слезах из глаз Маруси.
Когда наказанные грянули припев «Это есть наш последний и решительный бой!», заскрипели входные ворота на спальную территорию, и старший лейтенант, срывая голос, закричал:
‒ Рота-а, правое плечо вперед!
Строй с победным молчанием начал втягиваться на территорию училища.
В итоге до самого выпуска четвертый курс больше не выгоняли на вечернюю прогулку с песней.
А уж если строили все училище сразу и вроде бы без учебной причины, значит, ожидалась экзекуция. В одно из таких внеплановых построений, когда мы были уже на четвертом курсе и по стойке «смирно» стояла только первая шеренга, перед строем вывели двух рослых первокурсников со знаками бывших нахимовцев на груди. Находящиеся рядом с ними заместитель начальника училища и начальник политотдела усиливали эффект происшествия.
‒ Убили, что ли, кого? ‒ пошутил кто-то в соседнем взводе.
Заместитель начальника училища, бывший командир крейсера, капитан 1 ранга с мрачным лицом, похожим на скалы у Полярного, где мы были в этом году, кашлянул в пудовый кулак и прокричал:
‒ Товарищи курсанты! Эти два первокурсника, которых вы лицезреете справа от меня, опозорили наше училище. Они написали письмо своим бывшим однокашникам по нахимовскому училищу, ныне проходящим курс обучения в ленинградском училище имени Фрунзе, ‒ с удовольствием произнес он название оконченного им заведения. ‒ Вот послушайте, что они им хотели сообщить…
Из рук начальника политотдела в его руки перекочевал конверт. Заместитель начальника училища вынул из него сложенный в несколько раз тетрадный листок, развернул его, встряхнул, отнес подальше от глаз и с брезгливым выражением на лице начал читать: «Вы идиоты, что не поехали с нами в Киев. Здесь не училище, а полная лафа. Мы каждый день лазаем через забор в самоволку бухать, и ни один офицер нам не мешает, а вы там сидите на цепи и свободы не видите. В Питере патрули на каждом шагу, а тут только по выходным, а в районе, где наша бурса, их вообще не бывает. Девки так и шастают вокруг. Рядом общага ткацкой фабрики. Девки все в соку. Безотказные как автомат Калашникова. Люби ‒ не хочу. Учеба вообще лафа. Из точных наук одна чепуха. Жрачка лучше, чем в питонии. В общем, мы тут встали на все виды довольствия, включая переднее, и живем как белые люди. Завидуйте, уроды!»
Рука заместителя начальника училища опустилась к ноге вместе с письмом, словно оно весило не меньше пуда. Он мрачно помолчал и добавил:
‒ Там еще дальше матом. И много плохого про ваших командиров и начальников. Данные курсанты пытались отправить это письмо, но бдительность сотрудников училищной почты помогла нам избежать неслыханного позора. Вы не лучше меня знаете, что все, что они написали, это ложь. Явная, грубая ложь. Детский выпендреж. Начальник училища намерен отчислить нарушителей, пытавшихся опозорить наше отличное училище, на флот матросами. Пусть послужат три года в плавсоставе, раз им здесь лафа, ‒ вставил он слово из письма.
Первокурсники, авторы письма, по росту совсем не уступавшие огромному заместителю начальника училища, стояли склонив голову, будто впервые увидели собственные ботинки, а не слушали громкую читку своего литературного творения.
Говорили, что на следующий день их повели на итоговую расправу в кабинет адмирала, начальника училища, и тот после долгой угрожающей речи вдруг спросил:
‒ Кто ваши родители, разгильдяи?
‒ Мой отец ‒ в Главном оргмобуправлении Генштаба, капитан первого ранга, ‒ сказал один из них.
‒ А мой ‒ начальник управления в Главном штабе Военно-морского флота, контр-адмирал.
В кабинете повисла гнетущая тишина.
‒ Ладно, ‒ разрядил ее начальник училища. ‒ Идите. Я подумаю.
Он думал очень долго. За это время оба писателя прошли четырехлетний курс обучения, стали лейтенантами и уехали на Северный флот…