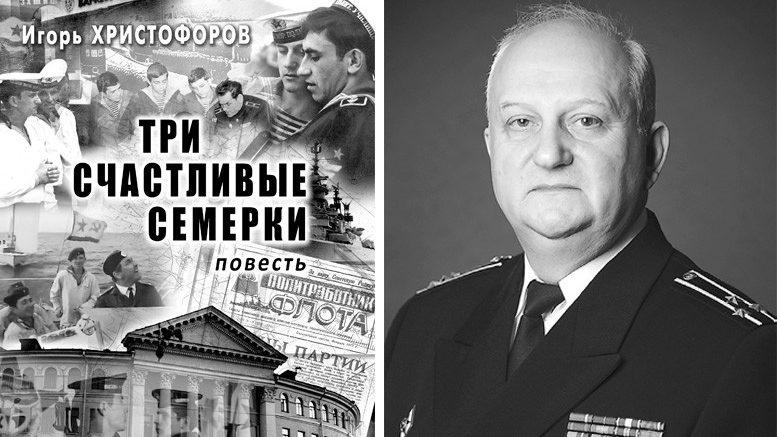Говорят, что девушка ищет в мужчине великое будущее, а мужчина в девушке ‒ маленькое прошлое. У Натальи, девушки из небольшой деревни из-под Киева, не было никакого даже минимального прошлого, но она не знала, где найти парня с большим будущим. Подруга предложила пойти вместе с ней на танцы в военно-морское училище, потому что, по ее мнению, там у каждого было немалое будущее хотя бы по офицерской зарплате.
В спортзале, где на баскетбольном паркете кружились пары, к ним, сиротливо отстоявшим у стенки полчаса, подошли двое курсантов. Синие форменки, золотые якорьки на погонах, горящая золотом бляха на ремне с еще одним якорем, уголок тельняшки на груди в обрамлении сине-белых полосок гюйса. От одного этого у любой девушки могла закружиться голова. Из двух подошедших один был гвардейского роста, под метр девяносто, второй чуть ли не ниже Натальи. Она не мигая смотрела на высокого курсанта, но тот, не взглянув на нее, выбрал подругу. К Наталье галантно шагнул второй. У него были серые глаза и широкие волевые брови. К концу вечера они прошлись по залу в танце еще несколько раз, и откуда-то сверху к ней пришла простая мысль: «Ну и ладно. Пусть хоть такой».
Расставаясь у ворот училища, Наталья продиктовала ему адрес, он дважды удивленно перечитал его, и ему тоже откуда-то сверху пришла мысль: «Из деревни. Ну и ладно, пусть будет из деревни».
Ни мобильных телефонов, ни смартфонов те годы не было. Чтобы услышать хоть слово от нового знакомого, Наталья приехала в город с большим кульком клубники со своего огорода и долго караулила у ворот училища. Подруга сказала, что у моряков две территории ‒ учебная и спальная, и на обед с занятий после двух часов дня они идут по городским улицам.
Синие металлические ворота с алыми звездами методично открывались и закрывались, выпуская то одну, то другую роту на площадь, но Наталья, добротно проинструктированная подругой, лихорадочно искала цифру курса на полоске, пришитой к нагрудному карману.
Когда она все-таки увидела ее на груди бравого старшины, задававшего ритм шага очередной вытянувшейся из глубины училища колонне, сердце забилось так, как еще никогда не билось в ее жизни. Взгляд летал с лица на лицо и, когда добрался до последней шеренги, замер на знакомом лице с широкими бровями.
Наталья бросилась к нему, протягивая кулек с клубникой, но курсант даже не повернул к ней голову.
‒ Это я, Гена! ‒ не сдержалась она.
Он опять не дернулся. Строй двигался ходко, и ей пришлось ускориться, чтобы опять поравняться с Геной.
‒ Это я! ‒ неожиданно зашершавевшим горлом просипела она. ‒ Ты меня не узнаешь?
Он посмотрел на нее с легким презрением, хмыкнул и отвернулся.
Обида остановила ее. Синяя курсантская река текла прочь, и она впервые в жизни почувствовала себя отвергнутой. Этого чувства еще не было в ее маленьком прошлом.
Наталья швырнула пакет с клубникой в первую попавшуюся бетонную урну, отвернулась, сглотнула слезу и пошла по качающемуся асфальту к остановке трамвая.
Дней через десять в дверь ее деревенского дома постучали. Наталья открыла ее и тут же захлопнула при виде невысокого курсанта на пороге. Оконные стекла раздраженно зазвенели.
‒ Это я ‒ Гена! ‒ удивленно крикнул гость крашеным доскам двери и постучал по ним уже сильнее.
Доски молчали.
Он снял бескозырку со взмокшего лба, сунул подмышку и снова постучал.
‒ Это я ‒ Гена! ‒ повторил он. ‒ Мы познакомились на танцах в училище. Ты не хочешь меня видеть?
Дверь с минуту помолчала и тихо отъехала на пару сантиметров.
‒ Ты сделал вид, что не знаешь меня, ‒ ответили эти сантиметры.
‒ Какой вид? ‒ не понял Гена. ‒ Я уже давно не был в увольнении.
‒ Ты шел в строю с занятий. Я тебя окликнула, а ты…
‒ С занятий?
‒ Да, с занятий!
‒ Это когда было?
‒ В ту среду. Десять дней назад.
Дверь попыталась захлопнуться, но Гена подставил ногу.
‒ В среду в обед я стоял дневальным на тумбочке. Я не был на занятиях и не мог идти в строю.
Дверь распахнулась рывком, и Гена вскинул руки, чтобы устоять. Бескозырка упала, стукнулась о порог и вкатилась в дом к ногам Натальи.
‒ Правда не был тогда в строю? ‒ с окрепшей надеждой в голосе спросила она.
‒ Правда, ‒ удивился он ее восхищенно распахнувшимся глазам. Он впервые увидел, какие они у нее красивые.
‒ Значит, я обозналась?
‒ Значит, обозналась…
Через два года они расписались в ЗАГСе и уехали во Владивосток. Сейчас у них двое детей и двое внуков. Вот такие танцы…
Говорят, что абсолютной красоты не существует. Рыжеусому курсанту Андрею больше всего нравились девушки со слегка приоткрытым ротиком. Именно такие красотки жили на экранах кинотеатров в американских фильмах. Андрей не знал, что чувственно приоткрытый ротик у актрис ‒ это такой же голливудский штамп, как драка на кулаках между очень хорошим героем и очень плохим в конце любого боевика. Однажды в городе в самый обычный, ничего не предвещавший день он встретил девушку со слегка приоткрытым ротиком. У нее был кукольный носик, большие испуганные глаза непонятного цвета и тоненькие пальчики пианистки. Она пококетничала минут десять и с удовольствием взяла под ручку усатого высокого моряка с красивыми якорями на погонах и ремне.
На следующий день у подъезда какого-то дома он прижал ее и впервые поцеловал в долгожданные губки. Она чуть выгнулась в попытке избежать этого, но ей понравились его крепкие руки, и она сдалась. Потом они целовались в кино и на стадионе, на скамейках и в тени каштанов. Он дышал ею, а она им, и это хотелось продолжать вечно. Но на земле ничего не бывает вечным.
Он уехал в июле на практику на юг, вышел в море на сторожевом корабле и за делами совершенно забыл ее губки.
В море, на рейде какого-то южного города, его вызвал в каюту замполит, лысеющий черноусый капитан-лейтенант из первого выпуска училища, и, не предложив сесть, спросил:
‒ Ты зачем усы сбрил?
Андрей потрогал влажную кожу над верхней губой и честно ответил:
‒ Хочу загореть. По полной форме. Лето все-таки.
‒ Может, и мне сбрить? ‒ спросил замполит, глядя на женский портрет под плексигласом на столе.
‒ Не могу знать, ‒ отличной военной фразой ответил Андрей.
‒ И я не знаю. Капец мне, наверно, Андрей, ‒ впервые назвал он его по имени. ‒ Развожусь я. А у нас, политрабочих, это конец всему. Спишут куда-нибудь на берег в роту связи, и умру я капитан-лейтенантом. Даже салюта на похоронах не будет.
‒ Почему не будет? ‒ наивно спросил Андрей.
‒ Потому что салют почетного караула положен только усопшим старшим офицерам.
Андрею захотелось поскорее уйти, но он не мог этого сделать без разрешения старшего по званию.
‒ У тебя девушка есть? ‒ устало спросил замполит, приподнял плексиглас, вытянул из-под него фото женщины и швырнул в урну.
‒ Есть, ‒ не мог Андрей оторвать взгляд от черного бока урны.
‒ Любишь ее?
Андрей никогда ни с кем не делился ничем сокровенным. Не поделился и сейчас.
‒ Знаешь, как проверить, твоя это судьба или нет? ‒ не унимался замполит.
‒ Не знаю.
‒ Очень просто. Представь, что ты ее потерял навсегда. К примеру, умерла. Или погибла в автоаварии. Если почувствуешь дикую пустоту и желание сдохнуть самому, значит, это твое. А если ничего внутри не дрогнет или дрогнет так, чуть-чуть, значит, беги от нее.
Андрей вышел из каюты замполита, аккуратно закрыл дверь, прижался спиной к ее холодному металлу, закрыл глаза и только сейчас за многие дни вспомнил приоткрытый ротик девушки.
Он вернулся после практики в город и в первый же день встретился с ней. Она вежливо восхитилась его загаром, а он в ответ поцеловал ее в щеку и долго не мог понять, что же в ней изменилось.
‒ А я брекеты на нижних зубках сняла, ‒ похвасталась она, и он сразу понял, что изменилось: она утратила чувственно приоткрытый ротик.
Губки стали слишком тонкими и плотно легли друг на дружку. Он прижался к ним своими обветренными губами и впервые ничего не ощутил. Будто поцеловал бумагу. Мир вокруг стал скучнее и тише. В нем словно бы уменьшили звук. Он впервые заметил, что у нее серые, в зеленых точках глаза, хотя до этого они казались голубыми, а на скулах неприятно светлеет пушок.
Он унес со встречи какое-то новое горькое чувство, немного похожее на то, что испытал в детстве, когда у него украли альбом с марками. Он плохо спал, все время отставал от строя на утренней пробежке, а на первой же лекции написал ей сумбурное письмо, в котором главной мыслью было то, что им лучше больше не встречаться, но он так и не придумал причину расставания.
Андрей втайне надеялся, что она приедет в училище и вызовет его на КПП, как делали до этого десятки девушек, брошенных курсантами, и все между ними станет по-прежнему, но она не приехала. И ответное письмо тоже не написала.
Совесть долго мучала его, и самым тяжелым в этих муках были картинки того, как она рыдает над его жестоким письмом. Он не знал, что ей нравились только усатые парни, и когда она увидела его без усов, то даже обрадовалась, потому что за время его отсутствия познакомилась с парнем с более пышными да к тому же жгуче-смоляными усами. Его руки оказались даже сильнее, чем у Андрея…
Говорят, что все не является тем, чем кажется. Немногие в жизни встречались с такой иллюзией, как отличник, передовик и вообще ажэпэшный курсант Вова. Для непосвященных сообщу, что АЖП ‒ это активная жизненная позиция. Соответственно Вова придерживался именно такой философии, а значит, участвовал во всех комсомольских акциях училища, района и города.
На одной из таких акций человек примерно на пятьсот он оказался в зале рядом с кареглазой востроносенькой девушкой с пионерским галстуком на груди. Они в один голос с залом кричали «Ленин, партия, комсомол! Ленин, партия, комсомол!». Потом она поймала его руку, вскинула в порыве и вместе с залом прокричала только что сказанное с трибуны бравым парнем в стройотрядовской куртке: «Слава ленинскому комсомолу! Слава! Слава! Слава!»
Потом они долго гуляли по вечернему городу, и теплое ощущение ее руки в его руке никак не исчезало. Она рассказала, что школу окончила два года назад, а галстук ‒ обязательная принадлежность освобожденного секретаря комитета комсомола школы.
Они вышли к реке, от которой тянуло совсем не весенним холодом, и он пожалел, что не поступил в танковое училище, как хотел отец, потому что тогда он бы мог набросить китель на ее плечи. Синюю форменку с гюйсом можно было снять только через голову, а уж набросить на плечи точно не получилось бы. Вова рассказывал какую-то глупость с последних лекций по философии и научному коммунизму, а она умно молчала, потому что два года назад не поступила в медицинский институт, и в ее жизни не было лекций по философии и научному коммунизму.
Когда они поднимались по лестнице от набережной, он очень хотел, чтобы лестница не заканчивалась, но она неожиданно закончилась, и он сразу ощутил не только пустоту, но и страх от того, что захотел ее поцеловать. Он впервые за вечер сам взял ее за руку, и теперь она оказалась влажной и мягкой. Он совершенно не знал, что делать дальше, потому что одно дело поцелуй в кино и совсем другое ‒ в жизни, где все твердо, объемно и пахнет дешевыми цветочными духами.
‒ Вон там я живу, ‒ вытянув с усилием свои повлажневшие пальцы из его пальцев, показала она на окна на четвертом этаже.
Окна были черными, но в одном из них едко горел оранжевый абажур, и он понял, что целовать придется здесь, а не в квартире, и от этой мысли ему стало еще страшнее. Он опять попытался поймать ее пальцы, но она сама протянула руку.
‒ Я работаю в школе до четырех, ‒ зачем-то сказала она, по-мужски пожала ему руку и пошла к подъезду.
Чем дольше она шла, тем длиннее становилась ее тень от уличного фонаря и тем сильнее эта тень тянулась к нему. Он нагнулся, тронул кончиками пальцев остановившуюся у его ног тень, но она вдруг исчезла под хлопок двери в подъезд.
В первое же увольнение в четыре часа дня Вова пришел к этим окнам. Примерно через полчаса она появилась из-под арки во двор. Она была не такой красивой, как тем вечером, но в ней уже было что-то родное, и он шагнул ей навстречу. Она испуганно улыбнулась, поздоровалась и предложила пройти с ней в квартиру.
‒ Мне через час надо быть в райкоме комсомола на совещании. Пойдем перекусим, ‒ сказала она так, будто они до этого уже перекусывали сотни раз.
В тот день он опять ее не поцеловал, но они стали встречаться чаще. И однажды уже на той же квартире он ее обнял. И она первой поцеловала его. А что было дальше, он не очень хорошо помнил.
В конце мая Вова уехал в отпуск, а сразу после возвращения убыл со всем курсом в Полярный, военно-морскую базу Северного флота. Оттуда он ушел на корабле в поход вокруг Европы. Она тоже не осталась в городе, потому что каждое лето работала вожатой в пионерском лагере.
В начале сентября, в день, когда курсанты после всех приключений добрались наконец-то до училища и усердно чистили аседолом бляхи для первого за долгие месяцы увольнения, Вову вызвали на КПП спальной территории. Он открыл дверь в комнату приема посетителей и обомлел. Перед ним стояла та востроносенькая девушка-комсомолка. Под легким платьицем девушки угадывался приподнявшийся животик. Испуг и раздражение сменяли друг друга на ее лице.
‒ Видишь, что ты наделал, ‒ сказала она ему тоном, каким обычно отчитывала двоечников в школьном коридоре.
‒ Вижу, ‒ еле выдохнул он.
‒ И что теперь? ‒ снова спросила она.
‒ Ну это… Надо жениться…
Через неделю они сыграли скромную свадьбу, но она родила только через три года. Уже в Полярном, куда он попал служить на базовый тральщик.
А тот животик она наела за три месяца в пионерлагере на казенных харчах.