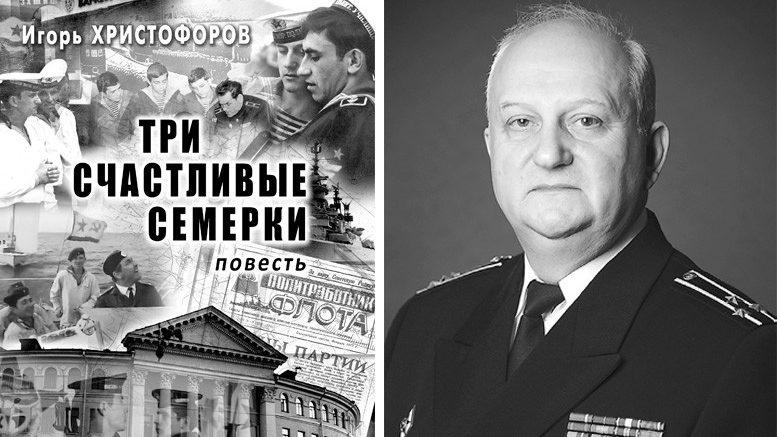Вкусы с годами меняются. С первого курса училища мы считали, что нас кормят очень даже средненько, хотя с дистанции в сорок с лишним лет перловка с кусками жареного хека на завтрак смотрится довольно аппетитно и, главное, натурально. А тогда мы хотели большего. Мы хотели кулинарной роскоши. Желание родило изобретение, но имя гения, первым предложившего его, кануло в туман над Подолом.
Изобретение было простым: с вечера в каждом взводе назначался дежурный по закупкам колбасы и сыра утром следующего дня в гастрономе на противоположной от училища стороне Красной площади. Во время физзарядки он под прикрытием товарищей отделялся от бодро бегущего строя и нырял за кусты. После того, как рота втягивалась в улочку за углом, колбасник отработанным маршрутом добегал оставшуюся сотню метров до гастронома и нырял в его теплое, вкусно пахнущее нутро.
Мне выпала пятница в конце октября. Над Подолом висела скучная седая морось. Рота бежала в колонну по четыре точно в ногу, словно вот-вот должна была перейти на строевой шаг. Рядом с нею семенил, задавая ритм, новый старшина роты. Он был не так придирчив, как предыдущий, который как-то быстро и незаметно уволился из училища, и мы сразу забыли его свирепые азиатские глаза. Одного отставшего курсанта из последней шеренги новый старшина роты не заметил. Или сделал вид, что не заметил, и я рванул к двери магазина.
Очередей в гастрономическом отделе было две. Жители Подола с утра закупались на выходные и для выезда на дачу. Я занял очередь человек на пять. Вареную колбасу брали палками, а потому я довольно быстро оказался у весов, стоявших между двух витрин под выгнутым стеклом. Слева ‒ желто-белой от кругов сыра и брикетов сливочного масла и маргарина, справа ‒ красно-коричневой от сложенных горками колбас. На столах за спинами у продавщиц двухметровыми пирамидами высились банки с тушенкой, сгущенкой и мясными консервами «Завтрак туриста», которые в народе звали «Последний завтрак туриста», а наверху средней, самой высокой пирамиды стояла фарфоровая статуэтка молодого казака в красных шароварах. Он так высоко вскинул ногу в гопаке, будто намеревался спрыгнуть с этой пирамиды в пахучее колбасное царство внизу.
Массивная тетка, похожая на круг сыра, привычно хмыкнула при виде курсантской робы и со знанием дела протянула ко мне пухлую кисть:
‒ Шо замер? Давай бумажку, морячок.
‒ Вот! ‒ достал я из нагрудного кармана сложенный вчетверо листок в ученическую клеточку и протянул его продавщице.
Пробежав по строчкам, которых оказалось два десятка с лишним, она оправила белый колпак, косо сидевший на обесцвеченных до похожей белизны волосах, и с удивлением прожевала губками со следами съеденной алой помады:
‒ Восемь граммов сервелата? Это как?
‒ Если можно, двумя кусочками, ‒ передал я просьбу Шуры, самого доброго и самого потратившегося в увольнении курсанта взвода.
На самом деле по документам он был Валерой, но все звали его Шурой, что считалось в порядке вещей в нашем классе, где еще одного Валеру звали Алексом, а Олега почему-то Аликом. Мы пытались изменить навязанную нам реальность, но другого способа не знали.
‒ А одним куском нельзя? ‒ приготовилась нахамить продавщица.
‒ Можно. Но лучше двумя.
‒ А сыра не надо? ‒ перевернула она бумажку, но на обороте ничего не нашла.
‒ Никто не заказал, ‒ наконец-то успокоил я одышку после стометрового рывка через площадь и смахнул капли мороси с чуба.
‒ От зараза! ‒ пропела тетка, зло посмотрела на двух занявших за мной очередь мужиков и нырнула по пояс в витрину. ‒ Когда же ж вас, бездельников, на флот отправят! Шо ж вы ходите и ходите кажын день!
С безошибочной гастрономической памятью она подняла на прилавок все нужные по списку марки колбас: докторскую и любительскую, краковскую и полтавскую, языковую и одесскую, московскую и, наконец, изысканный варено-копченый сервелат. Порции были смешные: сто грамм, пятьдесят, семьдесят, восемьдесят. Строго по деньгам, оставшимся в курсантских карманах после увольнений.
Нож летал по прилавку, отсекая нужные порции. Ошибки в один-два грамма в учет не шли. Каждая стопка мясных колесиков завертывалась в хрустящую крафтовую бумагу и складывалась у весов, промасленные пальцы летали между палками колбасы и счетами с деревянными костяшками.
Я с тоской в душе слушал их мерный стук и спиной ощущал дрожжами поднимающуюся ненависть в растущей за мной очереди. Чаще всего ожидание скандала выматывает сильнее, чем сам скандал.
‒ Долго еще? ‒ возмутился за всех писклявый женский голосок.
Продавщица по-садистски промолчала. Ей, кажется, нравилась эта пытка над очередью.
‒ Я так на электричку, пожалуй, не успею, ‒ самому себе напомнил скромный мужской голос где-то в середине очереди.
Кто-то поддержал его в конце закрутившейся хвостом очереди, но я постарался оглохнуть. Если начать о чем-то думать очень сильно, то мир исчезает и уже ничего не слышишь. А все, что прямо перед тобой, превращается в немое кино.
Замедленным движением продавщица отсекла ровно два прозрачных колесика сервелата, положила их на обрывке бумажки на тарелку весов и сделала такое счастливое лицо, словно ей только что предложили выйти замуж.
‒ Ровно восемь граммов! ‒ объявила она. ‒ Глаз ‒ алмаз. Шо у тебя там с деньгами? Ты что, не слышишь?
‒ Что? Все уже?
Я разжал кулак с потными монетами, сыпанул ими по прилавку, а сверху прикрыл мятыми рубликами из кармана.
Очередь за спиной одновременно вздохнула, будто вынырнула из-под воды.
Замедленным движением продавщица вытерла масляные пальцы тряпкой, сложила стопочкой монетки к монеткам по номиналу, разгладила рублики и тоже сделала из них подобие стопочки.
‒ На! ‒ сдвинула она толстым пальчиком по прилавку две копейки сдачи, но я сделал вид, что не заметил этого.
Ребром ладони я смел сверточки с драгоценными порциями в целлофановый пакет и, не оборачиваясь на очередь, бросился в обратный, еще более рискованный путь, чтобы присоединиться к бегущей к воротам училища роте.
Через полчаса на завтраке третий класс второй роты почти в полном составе пил чай с колбасными бутербродами.
Два колесика сервелата на прямоугольном кусочке белого хлеба у Шуры, который на самом деле Валера, смотрелись наиболее изысканно. Он держал бутерброд, чуть отставив в сторону мизинчик и, возможно, ощущал себя графом в ресторане. А может, и не графом, но таким довольным я его не видел давно.
Когда маленький, кругленький, плотненький старшина прокричал команду «Роте встать, строиться для перехода на учебную территорию!», на столах в чугунных бачках взвода осталась почти вся перловка и большая часть хека. А я ощущал невероятную легкость в душе, потому что очередь на следующий нырок в магазин подошла бы ко мне только через месяц.